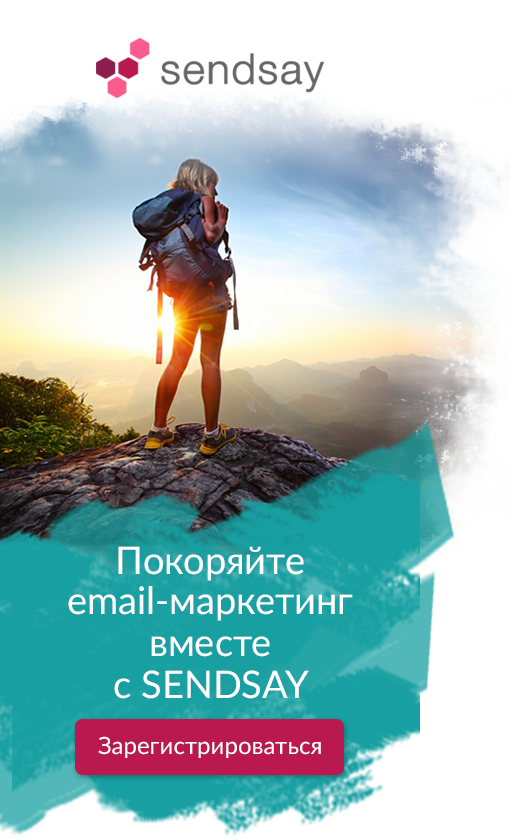RSS-канал «~»
Доступ к архиву новостей RSS-канала возможен только после подписки.
Как подписчик, вы получите в своё распоряжение бесплатный веб-агрегатор новостей доступный с любого компьютера в котором сможете просматривать и группировать каналы на свой вкус. А, так же, указывать какие из каналов вы захотите читать на вебе, а какие получать по электронной почте.
Подписаться на другой RSS-канал, зная только его адрес или адрес сайта.
Код формы подписки на этот канал для вашего сайта:
Последние новости
https://morgulis.livejournal.com/331219.html
2023-09-02 09:33 morgulis
ПРИШЕЛЕЦ
I
России странствуя вселенной,
То меж холмов, то вдоль реки,
То по долине отдаленной,
Счастлив возница утомленной
Встречать стезею искривленной
Почтовых станций огоньки.
В стенах дорожного трактира
Ему харчевня и квартира,
Да кружка пуншу, если хвор,
С купцом проезжим разговор,
То сериозной, то шутейной,
Над жаркой чашею питейной,
Что обещают небеса
До утра сыпать белым пухом,
Что веси наши полны слухом,
Что прирастет цена овса,
Что дурно чинят мостовые,
Что помельчали чаевые,
Что турка вновь грозит войной,
И чает выступить весной,
Что врут царю его бояре,
И тот в гремливом циркуляре
Засим велит ломать и сечь
Что должно б холить и беречь,
Что завелось средь иудеев
В шинках своих ховать злодеев,
Держа мятежливых витий
На барыши с продаж питий.
Не раз, гоним буранным хладом,
Ни зги не зря над конским задом,
И я понуку слал одрам
Поворотить в разливах снега,
Взыскуя крова и ночлега
По постоялым по дворам.
И там, за стенами подворий,
Где пламень кухни полыхал,
Тьмы презабавных я историй
У очага переслыхал.
Перескажу одну; без гнева
Внемли гармониям напева
Провинциальных этих саг:
Из них звучит былое живо,
Бежав забвения счастливо
Средь ворохов моих бумаг.
II
Евреев мирных вечный род
Живет по заводям местечек,
Судьбы спасаясь от невзгод,
Приемлет вечный свой исход,
Хранит уклад и обиход;
По вечерам при свете свечек
Твердит Талмуд, блюдя мицвот.
Лишь землю озарит восход,
Уже курится дымоход,
Очнувшись от ночных дремот,
Хозяйки вертятся у печек,
Шумят детишки у крылечек,
А старики, устроив сход,
Длиной тщеславятся бород,
И пейсов плавностью колечек,
И знаньем дебрей мишнайот.
С утра в шабат у синагоги
Сынов Израиля парад:
Всяк иудей субботе рад;
Люд полнит вымостки, дороги,
Благочестив, во храм спешит;
Чредой плетутся, паки, паки,
Менялы, шойхеты, маклаки,
Седые старцы и юнаки;
Бекеши, фраки, лапсердаки,
Платки, меховые колпаки —
Народ на площади кишит,
Взыскуя чтения Брейшит,
И на ворота пялит зраки.
Часы пробили. Наконец
Раввин, духовный их отец,
Отверз священные чертоги,
И вот под своды синагоги
Склонить пред Господом главу
Идут гуськом, по старшинству,
Меламед Кац и могель Коган,
Такою честию растроган,
За ними шествуют вослед
Седой Гольдштейн, сутулый дед,
С своей уродливою дщерью,
И, задержавшись перед дверью,
Клоня в раздумье темный лик,
Вздыхает мешкотный старик,
Согбен годами как виною.
«Богатый, — шепчут за спиною, —
Заезжий дом дает ему
До тыщи в месяц одному,
Да и корчма, он в доле с братом.
Сочти!» — «Ах, сладко быть богатым!» —
«А мне б его достаток, я б...» —
Идут, идут — брадат и ряб,
Скорняк Шмульзон и Дрейфус пекарь,
Сметливый Розенфельд аптекарь,
И сойфер ревностный Бухштаб.
И, отделившись вереницей
Перед молельною светлицей
Шумливых от своих супруг,
Они, сокрывшись за мехицей,
В раздумьях замолкают вдруг,
Садятся отрешенны, строги,
В высоких помыслах о Боге,
Царя небесного щедрот
Прося молитвой в день шабата,
Цицит кладут замысловато
И оправляют атарот.
Но вот ликующего гула
Благочестивых горожан
Волна катит: проходом шула
К ковчегу близится хазан;
Как дорогого злата слиток,
Подъемлет шуйцей тяжкий свиток,
Десницей отворяет край,
И над склоненными мужами,
Под своды, выспрь, меж витражами
Несется «Адонай сфатай...»
Оборотясь к руинам Храма,
Стоят потомки Авраама,
Молитвы жаркие творя,
Псалма твердя распевы длинны,
Чела склоняя и тфилины
Во славу Вышнего Царя.
Когда ж смиренны смолкнут хоры,
Сердца молитвой отогрев,
Евреи внемлют слову Торы,
То повторяя нараспев
Ее святые постулаты,
То стихнут, мыслию крылаты,
Господню истину прозрев,
Ее надмирное свеченье,
И, испытавши облегченье,
Молельный завершая труд,
Вослед за Торою идут,
В ковчег священный водружают,
Его толпою окружают,
И на него замок кладут.
Внезапно враз домина храма
Взялась волной живого гама:
Звучит и смех, и болтовня,
И прихожане, гомоня,
Толкуют о делах семейных,
Погодье, ценах бакалейных,
Об урожаях ячменя,
О лени отроков беспутных,
О заграничных слухах смутных,
Что будет в Персии резня,
Что чернь волнуется Варшавы,
Что пали до беспутства нравы,
И где бы подковать коня,
И ладно и ценой доступно,
И не сойдясь в последнем купно,
И веру не прияв ничью,
Глаголет всяк свою рацею,
И покидая ассамблею,
Ко своему спешит жилью.
III
Субботний полдень светом блещет.
По мостовым лиясь кривым,
Отлив людской в проулки плещет,
Течет к воротам домовым.
Желая тиши и покою,
Старик Гольдштейн, стуча клюкою,
Торопит спутницу свою,
Но та капризится: «Устала», —
Твердит ему, запричитала
И приседает на скамью.
Отец, кряхтя, садится с нею.
Вцепившись в узкий свой насест,
По-птичьи вытянувши шею,
Гольдштейна дочь глядит окрест,
Движенью внемля ненасытно.
Ей все забавно, любопытно:
Проулка шум, разгулье дня,
Мальчишек резвых беготня,
Ройба и гам народа Торы,
Степенных старцев разговоры,
Живой парад бород и шляп,
Собачий лай и конский храп,
Соседок шумные раздоры,
Дворы, колодцы и заборы,
Вороты, ставни и запоры,
Лавчонки, мусорные горы,
Субботы праздной суета,
Физиономия кота,
В окне мелькнувшая чердачном;
Старик сидит и с видом мрачным,
Не в силах горечь превозмочь,
Недвижный, косится на дочь.
Она была дурна собою:
Худа, болезненна на вид,
Ей оспа сыпию рябою
Покровы тронула ланит,
Она вздыхала вдруг недужно,
Она неловко, неуклюжно,
Вприхромку двигалась. Она,
Бывало, сидя у окна,
Могла вперять часами очи
Во смутный мрак осенней ночи,
Пока из тучи вдруг луна
Не появлялася, полна,
И дева жмурилась с испугом
И отпрядала, смятена;
Она была, увы, больна:
Падучей горестным недугом
Она была поражена.
Дом покидая боязливо
Единый на неделе раз,
Молитвы ради, жадных глаз
Дорогой не спускает Рива
С картин сумятицы мирской,
Где жизнь веселием искрится,
Чтоб, воротившись, затвориться
В полубольничный свой покой,
Повесить вестл, надеть передник,
Упрятать косы под чепец,
И на семь дней един отец
Ей будет друг и собеседник,
И духовник, и исповедник,
И опекун, и Торы чтец.
На небе солнца шар калился;
Двором ступая ко крыльцу,
Старик участливый склонился
К ее болезному лицу,
И весь надеждой осветился,
И слышит дочь, робка, тиха:
«Сегодня, Рива, я молился,
Чтоб Бог послал нам жениха». —
«Кто взять меня решится в жены?» —
«Мои расчеты не мудрены:
Детей послушные стопы
Ведут двоих под сень хупы,
Когда отцы о том поладят». —
«Боюсь». — «Пустое! Годы гладят,
Толкут как медные песты
И страхи юных, и мечты,
И сердца глупые порывы.
Вы, дети, будьте боязливы,
Кротки, покорливы всегда.
Я не наделаю вреда:
Авось отцовскою потугой
Тебе случится стать супругой
И с мужем жить до смертных дней,
Как жил я с матерью твоей.
В мечтах я зрел: ты пред каганом
Стоишь в наряде златотканом,
Взойдя к священному венцу:
Нет выше счастия отцу!
Я говорил о том с шадханом.
Он обещался порадеть,
Но прежде чем кольцо надеть,
Терпенья надобно набраться.
Благой не будет скор исход:
Не быстро дело. Ждать нам год,
А то и доле, может статься». —
«Все волей Бога да твоей». —
«Коль так случится, будет славно:
И хорошо, и благонравно,
А в видах денежных подавно:
Уж сколько я провел ночей,
Прозреть изыскивая средства
Во звездной россыпи густой
Преклонных лет покой святой,
Распорядителя наследства,
Кому б оставил я призреть,
Когда придется умереть,
Свою коммерцию, опеку
Над бедной дочерью моей,
Заезжий дом и сбыт питей.
Посколь такому человеку
Тугая следует мошна,
Задача видится трудна,
Однако ж труд и иждивенье
Осилят всяко преткновенье,
И тем окупятся сполна».
IV
К местечку близилась гроза.
Блистали в сумерках зарницы.
Старик Гольдштейн прикрыл глаза,
Не переворотив страницы.
Его неудержно ко сну
Клонило враз, когда во длани
Он брал Талмуд твердить Мишну,
Ученья рава Бар Нахмани
Хитросплетенья разбирать
Иль аггадические сказы:
Так богатей свои алмазы
В ларце желает озирать
И сочетать их, полусонный,
Но сумрак гуснул заоконный,
Свечей не было льзя зажечь.
Он собирался уж прилечь,
Забывшись дремою до свету,
Но лишь к одру шагнул старик,
Как от ворот раздался крик:
«Впустить казенную карету!» —
«Ох! Вот ведь не было заботы! —
Бормочет старец. — Этот дом
Закрыт по случаю субботы
Для всех проезжих! За Днепром
Стоит австерия Зарембы;
Безвестну страннику зачем бы
И не отправиться туда,
Где топят печь и греют ужин,
И всяк, несыт или недужен,
Там кров снискает без труда:
Шинок его открыт всегда,
Поляк с субботою не дружен,
Будь по трудам ему и мзда».
Колотят пуще! Торопливо
Старик заковылял к двери
И кличет: «Рива! Где ты, Рива?
Стучат, ворота отопри!» —
«Ло, мелахот!» — «Увы мне, знаю!
Великий Боже! Принимаю
На сердце грех я тяжкий сей.
Его я искуплю тшувою,
И со склоненною главою
Молить тебя душою всей
Я о прощеньи пылко буду.
Дочь, отвори: коль статься худу,
То грех ложится на меня.
Поторопись, неси огня,
Гостям поставим самовар мы,
Добросердечны будем к ним:
Завета гахнасат орхим
Я не забыл». — «Отец, жандармы!
Там, за воротами! Они
Ведут разбойника, взгляни!»
Отец и дочь в великом страхе
Спешат к вратам. В дорожном прахе
Стоит карета. Из нея
Выходит узник. Отстоя
На шаг, застыли конвоиры.
«Эй, иудей! В твои квартиры
Вселить приказано жильца, —
Фельдъегерь молвит у крыльца, —
И содержать на кошт казенный
Клеветника и бунтаря!» —
«Чьей властью?» — «Волею царя!» —
И видит старец потрясенный,
Как грозным стражником ведом,
Уже преступник входит в дом.
За ними, горестно стеная,
Бежит и старца дочь блажная,
И створа тяжкая дверная
Скрипит на шкворне на худом.
«На ночь одну ли? Избавленьем
Одарит завтра ль Бог от бед?» —
Несчастный вопрошает дед,
И роковой звучит ответ:
«Наказан вечным поселеньем!»
Блеснул огонь в скопленьи туч;
Загрохотали следом громы.
Возринул вихорь прах летуч,
И легкий лист, и клок соломы,
Нагнул древесные стволы
Своей неистовой рукою,
И воды из небесной мглы
На землю хлынули рекою.
Над лошадьми раздался гик.
Карета тронулась. Остался
У дома плачущий старик.
Холодный ветр как пес метался
По опустелому двору,
С налету в ставни бил снаружи,
Выл в дымоходе, зыбил лужи
И рвал пелены на шнуру.
V
«Отец, я видела рога!» —
«Дитя мое, тебе помстилось». —
«Он демон, сатаны слуга!» —
«В очах твоих, должно, мутилось.
Он человек. Давай войдем
В его каморку: приведется
Нам с ним делить и стол и дом,
Единым греться очагом;
Не растравляй же сердца злом,
Твори добро, когда придется:
О том Давидов есть псалом.
Не ждать же в страхе, в самом деле». —
Стучат и входят. На постеле,
Присев над кипою бумаг
С карандашом, монарший враг
Проворны делает пометы.
Сюртук раскрыт его. Грязна
Пола, с ветшалого сукна
Изникла пугвица, черна
Подбоя ткань, лишь два пятна,
Светлы, венчают рамена,
Где прежде были эполеты.
Старик откашлялся и рек:
«Войди к нам, добрый человек,
Будь гостем в мирном нашем доме.
Пора трапезничать пришла.
Пустует место у стола:
Оно твое. Жандарма кроме,
Никто и слова о тебе
Не молвил. Внемли же мольбе,
Не сокрывай, скажи мне верно:
Не из лихих ли ты людей,
Не государев ли злодей,
Не злотворящий Асмодей
Хозяин твой ли? Было б скверно,
Когда бы это было так.
Ответствуй мне нелицемерно!»
В ответ смеется весельчак:
«Не Люцифер ли мне вожак?
Не внемли сплетне легковерно». —
«Тогда скажи, что это ложь». —
И молвит поселенец ссыльный:
«Ты правды требуешь? Ну что ж:
Не сатана, но царь всесильный
Велел сослать меня сюда,
Не за злодейство, нет! За слово.
Да разве то владыкам ново —
Чинить расправу без суда?»
VI
Сияя блесками металла
И вея жаром от жерла,
Уж самовар сипел устало.
Струя янтарная текла,
Уханьем чайным наполняя
Простор широкого стола,
И Рива, страхи отгоняя,
Еще тревожна, несмела,
Зверка плененного подобье,
Бросает взоры исподлобья
То на несчастного отца,
То на чудного пришлеца,
А тот, теплом угревшись пещи
На лавке подле поставца,
Ведет свой сказ, и у конца
Уже черты его лица
Не мнятся деве столь зловещи:
«В полку своем слывя гулякой,
Я дорожил о том молвой,
И почитал за долг за свой
Развлечь друзей проказой всякой;
Среди поэтов и вояк
Немало встретишь забияк.
В моей квартирке холостяцкой
Сбирался братский наш синклит,
И вот веселие бурлит,
И всякий гость, военный, штатской,
Равно встречалися теплом
За нашим дружеским столом.
Вослед вину и разговоры
Промеж собою мы вели
Об обустройстве сей земли,
И жарки вспыхивали споры,
Извечны спутники пирам,
И жалом колким эпиграмм
Язвились судьи, прокуроры,
Митрополит, светлейший князь,
И выше... Там, не хоронясь,
Мы власти дерзко презирали,
Свободу прочили рабам,
А тем и собственным судьбам
Стези лихие избирали.
Студеным утром декабря,
Ведом повинностию братской,
Мой полк явился на Сенатской
Низвергнуть нового царя.
На бой готов — и вдруг во прах ты
В бесславье сронишь стяжный шелк...
С потерей в дело вышел полк:
Случайный узник гауптвахты
Я стал тринадцатого дня,
На день да ночь... Но без меня
Друзья мои на брань ярились,
И жаркой кровию багрились
Мундиры их, когда валились
Они под вихорем огня:
Картечин жалили их осы...
Там Комендантский дом, допросы;
Но дознавателей силков
Бежал я, словно волк проворный,
Вотще изведши труд их вздорный:
Не быв в рядах бунтовщиков,
Я лишь усмешкою надменной
Встречал профосов словеса,
И Дибич, хитрая лиса,
При двух престолах раб презренной,
Дивился воле не смиренной:
Нашла на камень, знать, коса.
Он отступал, но чрез минуту
Опять грозил и заклинал:
«Быв в стане замышлявших смуту,
Признайся мне: ты знал? Ты знал?» —
«Кто замышлял, уж верно знает,
А кто прознал, не замышляет:
К чему и замысел впрягать,
Где можно верно полагать?» —
Суровость хладная судейска
Его покинула на миг,
И он сказал мне напрямик:
«Лукавцы! Хитрость иудейска,
Сколь вы ее ни запасли,
Вас не избавит от петли!» —
И, склабясь, в очеса злодея
Я бросил: «По делам и честь,
И вашей шатье предпочесть
Я и желал бы иудея,
Да жаль, придется взаперти
Мне с вами вечер провести».
Стрела насмешки поразила
Ловца злоречной клеветы:
Он вспыхнул, ярость исказила
Служаки царского черты.
И он сказал, о стол ударя:
«Расплате быть за плутовство!
Есть спрос и строже моего». —
И так, не вызнав ничего,
Оповестил и Государя.
И царь, прознав, разгневан, злобен,
Вскричал: «Смутьянов ученик,
Да он и под судом шутник!?
В глушь иудейскую, во Жлобин,
Прочь из столицы до звезды!
Мои намеренья тверды:
Он жаждет быть средь иудеев?
Он эту долю обретет!
Он дням средь них утратит счет!
О, племя гнусное злодеев,
Их власть моя во прах сметет!»
В мой каземат глухой до света
Послушны стражники вошли,
С худой рогожи совлекли,
Цареву волю изрекли —
И вот ведут! Врата, карета,
Жандарм, глядящий из угла,
Глас часовых у переправы,
Фонарь последний у заставы...
Ночная отступала мгла,
Я ехал по дороге пыльной,
Встречая новую зарю:
Не вольный, не слуга царю,
Бесславный, поднадзорный, ссыльной,
Своей покорствуя судьбе,
Отрознен, как сорняк ковыльной,
От злаков добрых в молотьбе.
Властитель здешний, князь Хованский,
Служебный долг и христианский
Исполнив, мне жилье сыскал.
Надеюсь, он за то снискал
Себе какие воздаянья:
Царь любит верных. Покаянья,
И в том могу я слово дать,
Ему придется долго ждать:
Я терпелив». Старик поднялся
И молвил: «Бог тебе судья.
Твой грех понять не в силах я;
Но коль ты ложно обвинялся,
Будь в этом доме добрый гость,
Найди здесь мирную обитель,
Изринь из сердца боль и злость,
Не будь жестокий нам губитель.
Да будет тихим твой постой,
И пусть тебе не будут чужды
Наш бедный стол, наш быт простой,
Субботних утеснений нужды;
И мы нужду твою почтим
Чем сможем: и для иноверца
Найти любовь в глубинах сердца
Исайя учит, досточтим».
VII
Холодным ветра дуновеньем
Разнагощался старый сад,
И пес, ночным измаян бденьем,
Дрожал от утренних прохлад.
Покойный летом, пруд волненьем
Вздымался вдруг, ветрам впопад,
И волн о брег шумел биеньем.
Из пышных изгнана палат,
Сходила осень в каземат
Зимы жестоким повеленьем,
И скор был счет ее утрат.
На ветках инея оклад,
Оледенел и палисад,
Пастух своих не занят стад
По тучным пастбищам вожденьем,
Уже и землепашец рад
Предаться зим отдохновеньям,
Когда внезапный снегопад
Пустится в затишь наугад,
И вдруг снежинок мириад
Зимы дыханья вздымет хлад,
Помчит стремительным движеньем,
И мерно гаснущий закат
Во мгле исчезнет привиденьем.
Об эту пору путник рад
Не длить вечернюю дорогу
И ко трактирному порогу
До ночи сумрака свернуть,
До завтра отлагая путь
Нужде по личной ли, казенной,
И до постели довезенной,
До света божьего уснуть.
Кого тепла роскошным даром
Трактир манит? Купца с товаром,
Да в день базарный кустаря,
Уездного секретаря
С таким ничтожным циркуляром,
Что может он за самоваром
И отдохнуть, в пути схитря,
В компаньи славной почтаря
Да ямщика с ветеринаром,
Буран в душе благодаря.
Галдеж и шум в Гольдштейна доме!
Пылает печь. В застолья громе
Старик и Рива сбились с ног:
Артелью режут, куховарят,
Пекут, мешают, жарят, варят,
Несут уху, несут пирог.
Старик в стряпне вельми искусник:
Быть барышу, доходный день.
Но что как сумрачная тень
Сидит его невольный узник,
Храня молчание, в углу?
Не приседает он к столу,
Не занят общим разговором,
Лишь обведет холодным взором
Гостей проезжих пьяный рой,
И вновь мучительну, угрюму,
Свою размысливает думу,
Да отвратясь, вздохнет порой.
Владимир — нашему герою
Мы это имя здесь дадим —
Противный общему настрою,
Сидел насуплен, нелюдим:
Вином, ни карточной игрою,
Ничем нельзя было разжечь
В нем искру чувства; поперечь
Стоял он к общему веселью;
Невмочь и хмеля было зелью
Согреть и ум его, и речь.
Во дни начальны горькой ссылки
В нем не угасли чувства пылки,
Гордыня, не смиренный гнев,
Но неизбывность заключенья
И духа тяжкие мученья
Его сломили. Помрачнев,
Он злой судьбине покорился,
В бесстрастья келье затворился,
И сторониться стал гостей,
Как схимник плотския страстей.
Лишь в разговорах с бедной Ривой,
Покорной, кроткою, стыдливой,
Чужой суетности мирской,
Он, удручен своим уделом,
Смягчался сердцем охладелым
И обретал души покой.
Она дичилась поначалу,
И за единым с ним столом
К тарелке никнула челом,
Но все ж, при норове незлом,
Светлела ликом мал-помалу,
И как-то на его слова
Вдруг улыбнулася едва.
Идут недели чередою,
Все припоздняется заря;
Владимир, вставши со звездою,
Из своего монастыря
Гулять выходит, напевая,
И Риве молвив что, кивая,
Уйдет до полудня подчас.
Однако же, единый раз,
Он, собираясь на прогулку
На брег отложистый к реке,
Ее спросил о пустяке;
Она пошла с ним по проулку,
Толковый силясь дать ответ,
Дивясь уму его замет,
Забылась, с кем ступает рядом,
Но встретясь с изумленным взглядом
Прохожего, стремглав чрез сад
В смущеньи кинулась назад.
Когда же, вея холодами,
Январь фигурными слюдами
Оконны стекла измостил,
Понавощил дороги льдами,
Сугробы выстроил грядами,
Тропами стогны расчертил,
И водворил народ в местечке
В покои, где ко доброй печке,
К теплыни, что лучат угли,
Летят, что к лампе мотыли,
Углов озябши обитальцы,
Кто сесть за книгу, кто за пяльцы,
Кто час вечерних несует
Провесть под мирный гул бесед,
Когда посад от мраза вымер,
В ту пору Рива и Владимир,
Дни коротая взаперти —
Приязни кто поймет изгибы? —
Для гостя чуждого могли бы
И за приятелей сойти.
Разинув рот, она внимала,
Как звукам выспренних миров,
Рассказам о громах пиров,
Друзьях, что гибель разнимала,
О блеске бальных вечеров,
О страшных бурях океанских,
О злых набегах басурманских,
О жарких пустошах земли,
Куда сквозь волны и туманы
Ведут пиратов атаманы
Свои за златом корабли.
«Скажи, — вдруг спрашивает Рива,
Во предвкушении пугливо
Персты его во длань беря, —
Ужель ты видел и царя?» —
«А то!» — «Каков он?» — «Ликом страшен,
Главою выше вышних башен,
Подобен бешеному льву;
Невинной вскочит пред юницей,
Как мышь, сгребет ее десницей,
И заревет ей в ухо «У-у!»
Та млеет, лекари хлопочут,
Ведут несчастную в сераль». —
«Да будет уж, ничтожный враль!» —
И оба, не стерпев, хохочут.
VIII
Суббота, праведных царица,
Святого отдыха пора!
Буран за окнами ярится,
Но злые зимние ветра,
Весь мир пленив в жестокой сече,
В бессильи бьются о стекло:
В просторной комнате тепло,
Там зажигает Рива свечи
И улыбается светло.
Старик отвечны ритуалы
Вершит во исправленье душ:
Читает праздничный кидуш,
Святые преломляет халы,
И робко, одолев конфуз,
И чужанину ломит кус;
Вином течет фиал сребряный,
И чолнт в горшке дымится пряный,
Как бес, блазня чутье и вкус.
Проходит ночь, заря дорогу
Небес находит на путях,
Старик и Рива в синагогу
Сам-друг рядятся второпях.
Их постоялец зрит с усмешкой
На старца: с тесною бекешкой
Тот бой ведет не на живот.
Повержен супостат, и вот
Во предвкушеньи богомолий
Напялил дед колпак соболий,
Затем, сияющий как луч,
На подпоясок ладит ключ
Весьма торжественным манером.
Владимир с видом знатока
Кругом обходит старика
И величает камергером
Великошкловского князька.
Гольдштейн веселый негодует:
«Страшись, насмешник мой лукав,
Я зрю откуда ветер дует —
Вот погоди: весна минует,
Глядишь, и станешь гер тошав».
Пока они рядят бранчиво,
Не слишком старец ли жесток,
Убор свой оправляя, Рива
Вдруг ронит шейный свой платок —
Гольдштейну мнится, что нароком —
Владимир примечает оком,
Шутом проказливым к ней скок:
«Владычица, у ваших ног
Ваш паж с низринувшимся платом!
Он вышел в службу не за златом,
Но лишь из преданности к вам!» —
И таковым его словам
Она торжественно внимает,
С трудом удерживая смех,
И, млахи не свершивши грех,
Утрату в руки принимает.
Отец торопит. Чередом
Они неверному кивают,
И до полудня убывают
От дел мирских в молельный дом,
Псалмы идеже распевают.
Когда ж субботы дневный свет
Прогонит ночь, окутав мраком
Небесный свод, покой бесед,
И дремы сень, и цимес лаком
Равно доступны для друзей,
Что коротают в неге кресел
Вечерний час. Владимир весел,
Он собеседнице своей
Урок французского затеял,
И Рива, лепеча едва
За ним диковинны слова,
Его смешит. Язык навеял
Забаву новую избрать:
У ней он выпросил тетрадь,
Виньеток роем осыпает,
На переплете голубом
Выводит вязию «Альбом»
И мадригал лихой кропает,
И ей подносит, и она
Читает: «В хладном мраке скита
Ты счастье ссыльного пиита,
Ты роза, дивна и нежна…»
И отвечает, смущена:
«Ни от отца, единоверца,
Ни от кого до сей поры
Не подносили мне дары
Столь драгоценные для сердца.
Игра потешна, может быть;
Счастливым будь, шути привольно,
Но мне, провижу, будет больно,
Как час придет ее забыть».
IX
В глазах Гольдштейна злой укор
Горячим углием светился:
«Довольно, Рива, вперекор
Мне речь! Закончим этот спор!
Того довольно уж, что вздор
Я твой выслушивать пустился!
Твой долг святой — блюсти цниют,
Стыдливой быть и благонравной.
И что я вижу? Враг державной,
Какому дали мы приют,
С тобой теперь запанибрата!
Как сердца тем не изгневить,
Что сей мизгирь тебя овить
Сумел тенетами разврата?
Закон не нам ли учрежден,
Чтоб не грешить в едином миге?
Но дух твой веры отчужден:
Я видел взор твой возбужден;
Чуть свет — к нему ты ежеден
Спешишь, его читаешь книги,
Полны суетной чепухи.
Скажи мне, за какой нуждою
Ты все твердишь его стихи?
Своею волей чередою
Зачем проводишь вечера,
Утехам предана безбожным,
Речам не внемля осторожным?» —
«Невинна наша с ним игра». —
«Игра? Незрячий разве я?
Тесней чем добрые друзья,
Сидите вы, главами близки.
Не в том забава ли твоя,
Чтоб грехотворничать, тая
Проказы, шалости, записки?
Как можно было, дочь моя,
Подобной мерзостью увлечься?
Не я ль просил тебя заречься
Творить худое на позор?
Не сокрывай, я зрел вечор,
Как, ласков, твой светился взор.
Просил я ране остеречься;
Но руку ты его взяла,
И вы пошли вокруг стола;
Ты шла и кланялась как турка!
Не в лицедеи ль выйти вам?
Как он зовет подобный срам,
Кривлянье глупое?» — «Мазурка». —
«Великий Бог! Избавь от зла!
Молю, чтоб мудрость снизошла
На дочь мою в ее недуге.
Верни, верни мое дитя,
Дай жить ей, счастье обретя,
В Законе нашем, при супруге!
Отверзи милости врата!
Коль ей судьба страдать, недужа,
То на руках отца и мужа,
А не фигляра и шута!» —
«Отец, отец! Ты прав кругом
В своем желании благом
Укрыть меня защитной сенью:
Во мне глас разума умолк,
Я предала забвенью долг
И путь забыла ко спасенью.
Я чую сердцем, что грешу.
Молясь, у Бога я прошу
Вернуть мне жребий мой смиренный,
Что у меня пришлец отторг:
Молитвы искренней восторг
И мой покой уединенный.
Но почему-то всякий раз,
Лишь взор его лукавых глаз
Я встречу, сердце изнывает
И птицей рвется из груди
Куда-то ввысь, и впереди
Воображенье открывает
Мое пленительную даль,
Всю душу сладкой негой холя,
И грезы увлекают вдаль,
Туда, за овидь... Воля, воля!
За лес, за тучу, за грозу,
В полет, что птичьему подобен,
И оставляю я внизу
Наш старый дом и милый Жлобин,
И я лечу в заветный край,
Как от дурного сна очнулась,
Из тьмы во свет, в прекрасный рай,
Туда…» — Тут Рива покачнулась,
Тревожный взор забегал, дик,
Персты коркотою схватились,
Безумьем очи помутились,
Глас перешел в визгливый крик;
Припадка душной пеленою
Ее накрыла болесть зла:
Она хрипит, лицом бела,
Уста пузырятся слюною,
Лихой озноб ей тело бьет,
Бессильем члены оплетая,
Старик несчастный вкруг снует,
То гладит дочерь, причитая,
То бесполезною водой
Кропит лицо ей, то на ложе
Влачить пытается, но дрожи
Отцовой ласке не изнять;
Несчастный мается; обнять
Он дочь решился, и в объятьи
Сжимая, молит снять заклятье,
И ниспослать покойный сон
Безвинно страждущей, и он
Так жарко милость Божью молит,
Что тот просящему мирволит:
Сознанье во ее зрачках
Явилось вновь, редеют корчи,
Ослабли путы адской порчи,
И Рива птахою в силках
Еще трепещет, затихая,
Отцу кивнула, воздыхая,
И дремлет на его руках.
X
Цвели сады. Во льду наречном
Уже темнели полыньи.
Весна в походе скоротечном
В пределы Севера свои
Гнала морозов злые рати,
Купала мир во солнца злате,
Вела оврагами ручьи,
Звенела буйною капелью
И насыщала сладкой прелью
Зефира легкие струи.
На пышный пир весенний званы,
Тянулись птичьи караваны,
И в ветках лип, у дальних дач,
Гнездо мостил прилежный грач.
В тепле прогалин черных нежны,
Как из тумана огоньки,
Цветы прелестные подснежны
Явились вдруг, бледны, тонки.
Зеленой гладью по ширинке,
Слиясь в единое пятно,
Расшили почвы полотно
Стежками тонкими травинки,
И, ото сна восстав, на сук
Из кельи вылез схимник жук.
Приободрились и двуноги:
Блюдя порядок вековой,
По обретенной мостовой
К вратам высоким синагоги
В часы субботнего утра
Толпа стекается пестра.
Все те ж характеры и лицы;
По всем окрестным сторонам
Ко иудейския божницы
Они сошлись святым стенам.
И, возгласив благоговейны
Стихи последнего псалма,
Они идут в свои дома,
А между ними и Гольдштейны,
Покинув праведников сход,
Вершат привычный свой поход.
Все дале храм их богомольный.
Старик на дочь взглянул, довольный,
И произнес: «Тебе принесть
Я счастлив радостную весть:
Сегодня дело совершилось,
О коем, помнишь, толковал
Тебе, и к Богу я взывал,
И волей вышней разрешилось
Оно вдруг… Этою весной
Ты станешь мужнею женой.
Вот неба дар мне вожделенный».
И, встретив Ривы изумленный,
Испугом полнившийся взгляд,
Прибавил: «Свадебный обряд
Начнем помолвкою мы. Скоро
Мы ждем визита жениха.
Смотри ж, скромна будь и тиха,
Смиренность ласкового взора
Яви, послушлива, кротка,
Укрой стол лучшей пеленою,
И долю славь пребыть женою
Моше Дрозда, гробовщика». —
«Дрозд-гроботес!? Великий Боже!
Судьбою ввергнут во вдовство,
Отец, ведь он, должно, всего
Десятком лет тебя моложе!
Угрюмый делатель гробов…
Как обреченно сердце бьется!
Ужели мне, отец, любовь
С гробовщиком делить придется?
Душа в неволе изведется
Среди скудельных коробов».
Старик ответствует сварливо:
«Я знаю что причиной, Рива,
Всей этой ереси дурной;
Кто в дом явясь, как тать ночной,
Тебя худому надоумил,
Кто безрассудною рукой
Отнял души твоей покой.
Господь тебя не образумил!
Моей души вседневный труд
Вливал в дырявый я сосуд!
О путь отцовский, полный терний!
Ты позабыла долг дочерний!
Неволя, вишь! Так что ж, любя,
Мне мнить тюремщиком себя?
Когда прознал я, что супруга
Моше Дрозда, гробовщика,
Слегла от тяжкого недуга
И к избавлению близка
От мук земных, я взял в расчеты,
Что легче будет жизни гнеты
Ему не мыкать во вдовстве;
Он не замечен в плутовстве,
Живет неслышен, неприметен,
За ним худых не ходит сплетен,
И чтоб не длить мне розыск тщетен,
Помыслил я о сватовстве.
Не молод он, как ты — так что же?
Счислимы и его года.
А в девах киснуть вовсегда
Убытка всякого дороже.
Твое замужье — верный знак
Того, что в дней твоих остаток
Войдут призор, покой, достаток:
На что ж еще потребен брак?
Ведомый этим побужденьем,
Как дней шлошим прошла чреда,
Я в дом отправился Дрозда
И сладил, хоть не без труда:
Он не склонялся убежденьем,
Но, починившись, уступил». —
«Ты упросил?» — «Я уплатил». —
«Так вот цена его ответа!» —
«Ты вновь восстала на отца?
Молчи! Но что там у крыльца?
Великий Бог! Все та ж карета!
И тот фельдъегерь почтовой!» —
Старик стоит едва живой,
Боясь едино молвить слово:
Пред ним казенный экипаж,
И офицер, угрюмый страж,
Депеш блюститель, зрит сурово:
«Эй, иудей! Поди сюда!
Уйми слезливо бормотанье.
Жилец твой получил посланье.
Я должен часа ждать, когда
Составит ссыльный извещенье,
Что к бунтам в сердце отвращенье
Он испытал, что глубока
Вина его. Ну а пока
Гляди от ужаса не рухни,
Неси мне разносолов с кухни,
Да водки, да нажарь курей,
Да управляйся поскорей!»
Ног под собой не чуя, Рива
Позадь фельдъегеря гневлива,
Шмыгнув за бричкой кучерской,
Во двор, к Владимиру в покой
Бежит — и встала на пороге:
«Ты не в цепях? Ты не в остроге?
Там твой мучитель окаян.
Да что с тобой? Ты будто пьян». —
«Я пьян не от вина — от вести!
Отец мой, страж фамильной чести,
Спасти меня мечтой горя,
Узрел в святилище царя,
Склоненным подле алтаря,
И, самодержцу павши в ноги,
Сколь из-за слез хватало сил,
Монаршей милости просил
Смягчить опалы кары строги,
И царь, смягчившись, возгласил,
Что он забвенью обвиненья
Готов предать, приняв в расчет
И рода нашего почет,
И бородинские раненья
Пред ним склоненного отца:
Случается, порыв прощенья
И злые трогает сердца.
Но за свое благодеянье
Мое он хочет покаянье —
Что ж, он бы не был государь,
Когда б не следовал закону:
Раба, припавшего ко трону,
Рукой прижми, другой ударь.
Я мнил, что милость бескорыстна…
Мне эта мена ненавистна.
Отвергнуть, оказать отпор?
Явить ли ложно покаянье?
Кто нищ, тому и подаянье
Принять в лишеньи не в укор:
Смешон кичливый оборванец.
Я знаю все: царев посланец
Изустно то мне передал.
Быть так. Довольно я страдал,
Чтоб мой палач утеху мести
Все длил. Урона нет для чести.
Ответа ждет царев гонец.
Решусь: изгнанию конец!»
В ответ нескладно, торопливо,
В волненьи путая слова,
Сквозь всхлипы слышные едва,
Лепечет плачущая Рива:
«Разрушен тихий мой приют,
Свободных дум полет высокий,
Покой мой отнят одинокий:
Меня чужому отдают
На горе вечное, на муки,
На жизнь велением чужим!» —
И вдруг, схватив его за руки,
Зовет: «Спаси меня! Бежим!»,
Полонена надеждой зыбкой;
Владимир, глядя на нее,
Сокрыть веселие свое
Не может. Отводя с улыбкой
Девичьи длани, он в ответ
Ей, ласков, шепчет: «Рива, нет.
Что за возвышенные бредни?
Куда бы я тебя увез?
Ты приняла, должно, всерьез
Роман, прочитанный намедни».
Но та упрямо, горячо
То слезным гласом друга манит,
То за рукав его потянет,
То теребит его плечо:
«Ты говорил мне о чужбинах,
Пустынных землях дальних стран,
О благородных паладинах,
Послушных ветру бригантинах,
Разверстых путникам равнинах,
О дикой вольности цыган.
В твоих речах иного боле
Меня мара блазнила воли:
Кто станет ею одержим,
Отдаст богатства все на свете
За счастье вырваться из клети.
Молю тебя: бежим, бежим!» —
«Послушай, что за блажь чудная?
Коснея в скуки долготе,
Я отдавался грез тщете.
Что жить, виденья поминая?
Все переможет явь земная,
Найдется мера и мечте.
Я знал и суд несправедливый,
И ссылку в чуждые края.
Ужель ты хочешь, чтобы я,
От глаз людских себя тая,
Как заяц маялся пугливый?
Иль быт цыган тебя прельстил?
Зачем бежать, коль царь простил?» —
И вдруг осекся, наблюдая,
Как Ривы ширятся зрачки,
Как цепенеет кисть руки;
Она схватилась за виски
И застонала, оседая.
XI
Знаток пиес Шакеспеара,
Смешались в коих кровь и кара,
В которых сыщется навряд
Едина без убийства драма,
Царят где семо и овамо
Измена, месть, кинжал и яд,
Сюжетов лихостию всхолен,
Ты, верно, будешь недоволен
Простым концом исторьи сей,
Где несть злодейства, ни смертей,
Ни злата во глубинах штолен,
Ни взятых с бою крепостей.
Се лишь курьез, забавный случай:
Пронзив космический эфир,
Проворный, словно луч летучий,
Во хворой девы темный мир
Пришлец ворвался метеором,
Что в небесах оставив след,
Не сотворит ни зла, ни бед,
И канет за далеким бором,
К земле стремлением ведом;
Настала тишь благословенна,
И жизнь, громами потрясенна,
Пошла привычным чередом.
Но ты, о добрый мой читатель,
Мой пред зоилами предстатель,
Избегнешь автору сказать,
Что мало он сыскал злодеев
Среди уездных иудеев,
Что живость действа обязать
Не стал дуэлью да погоней,
Да битвой против беззаконий:
И рад бы был, да негде взять.
Прости, не поминай во гневе
Рассказ мой о болезной деве,
Чье сердце знало вольный плен;
Так птица, что влетела в сени,
Стремится в щель, к заветной тени,
Укрыться между чуждых стен.
И если чувствам ты владыка,
Не затмевай печалью лика,
Воспоминай о том светло,
Как через миг она ко свету
Метнулась, неверна запрету,
И вдруг расшиблась о стекло —
То естество ее вело:
Превыше воли счастья нету.
Храни на сердце эту мету;
Да канет в мертвенную Лету
Неволей деемое зло.
https://morgulis.livejournal.com/330766.html
2023-08-26 04:05 morgulis
Архитектура

https://morgulis.livejournal.com/330686.html
2023-08-02 01:20 morgulis
КОЛЯДИНЫ КАМНИ
I
Чем в кабак опять тащиться,
Славно было бы потщиться,
Помечтать о чудном всласть
Да и сказку людям скласть.
Сказку скласть трудна работа!
Пишешь быль — одна забота:
Что прослышал, то бери,
Излагай, да в меру ври.
Коль войной пошел хазарин,
Соблазнил девицу барин,
Умыкнул разбойник таз —
Так о том веди и сказ.
Опиши, как было дело:
Дева юная сидела,
На лошадке на гнедой
Ехал барин молодой.
Разговоры да поклоны,
Целомудрия заслоны,
Веер падает в траву...
Кончил первую главу,
Начинай вторую сразу
Про господскую проказу,
Яд обмана, страсть, отказ —
И готов на том рассказ.
В части третьей же, блистая,
И мораль идет святая,
Зло к отмщенью вопиет,
И читатель слезы льет.
Дале смерть да тишь погоста:
Быль сложить куда как просто,
А поди-ка сказку складь —
Тяжеленька будет кладь!
Мочь поколь не оскудела,
Не ленюсь, берусь за дело,
А получится ль, бог весть:
Сказку скласть — не лапти сплесть.
II
Под небес звездистой бездной,
На земле моей любезной
Есть селенье Конский Брод.
Православный там народ
Вековечно проживает,
Нивы житом засевает,
Скот пасет в лугах окрест
Да зимой варенье ест.
Избы, церковь на пригорке,
А деревни где задворки,
За полстиною овса
Буераки да леса.
Пчельник встал в разливах гречки,
Там и мельница у речки,
И водица в ней жива
Пружит, вертит жернова.
Ближе к берегу, где ельник,
У конюшни старый мельник
В белом облаке муки
Мечет на возок мешки,
Весь упревший от усилий.
Звать же мельника Василий;
Века за два в старину
Род его Небийжену,
Рати вражьи проклиная,
Отошел с брегов с Дуная
И осел во Конский Брод
Ладить дом да огород,
Да иметь и сыти лишек,
Да растить своих детишек,
Да при меленке в домку
Пеклевать себе муку.
Труд источник всех обилий!
Уработался Василий:
Сам-то, чай, не из господ,
По лицу струится пот,
Ажно взмокла одежонка.
Голосит Василий: «Женка!
Аль оглохла на гумне?
Кличь сынов в подмогу мне!»
Фекла-мельничиха сразу
Бросив цеп, спешит к лабазу:
«Гой вы, два мои купца,
Поспешайте до отца!»
Оттого она купцами
Их зовет, что продавцами
Будут в ярмонке они
Во торговые во дни.
И василиевы чада,
Варсонофий и Коляда,
Пара дюжих близнецов,
Понеслись на зов отцов.
Потому, как день приспеет,
Кто на торжище умеет
Наполнять бойчей мошны,
Чем Василия сыны?
Варсонофий зазывает,
Брат мучицу добывает
Из мешка, его под спуд —
Вот уже и продан пуд.
Было так, не стану врать я,
Что везли с базара братья
В паре кожаных кошлей
По двунадесять рублей.
Мукомол мучицу мелет,
Вся семья достаток делит,
По трудам приемлет мзду
Да живет с Христом в ладу.
III
Будет тут сказать уместно,
Что не всякому известно:
Мир куда длинней на вид,
Чем казаться норовит.
Из конца в конец Украйны
Дали тянутся бескрайны:
Дотащился в Лубенец —
Глядь, ан миру не конец!
Мочи нет считать заставы,
Коль поедешь до Полтавы
На телеге иль в седле,
А конца все нет земле.
Не достигнет края света
Даже царская карета,
Коли царь заложит крюк
От Ивановки в Темрюк.
За границами Украйны,
Черноземы урожайны
Где преходят во пески,
На брегах Куры реки,
У хвалынских вод соленых,
На камнях, жарой паленых,
Стольный град стоит Ширван;
Правит им Ахмет султан.
Тянет он правленья бремя,
Дни проводит во гареме,
Покурит дурман-траву
Да и сядет есть халву.
У султана у Ахмета
Вышней волей Магомета
Во серале у реки
Злата полны сундуки,
Вкруг ковры да кашемиры,
А царицы от Самиры
Есть и дочь Аматулла:
Смоль коса, лицом бела,
Очи синие агаты,
Перси круглостью богаты,
Стан изгибчивей прута
И коралловы уста.
Прихотлива дочь султана
И изводит непрестанно
Докучаньями отца:
То с каменьями венца
От него в подарок хочет,
То о шали похлопочет,
То попросит скакуна
Быстроногого она.
Хан серчает, хан ярится,
В отговорах изнурится,
Потрясет седой главой
И идет до кладовой.
Просит дочь султана: «Отче!
Вот каприз мой, прочих кротче:
Мне охоту утоли
Облик зреть чужой земли.
Не хочу на платье стразы,
Ни смарагды, ни алмазы,
Ни жемчужин на парчу —
Ныне странствовать хочу!» —
«Эко, дочка, размахнулась!
Али ты совсем рехнулась?
Деве путь ли по плечу?
Что за вычуры!» — «Хочу!» —
«Слову отческому внемли!
Да куда ж?» — «В чужие земли
Вольной птицей полечу!» —
«Смилосердствуйся!» — «Хочу!» —
«А конвой, обоз, дружина?» —
«Призови в подмогу джинна.
Помнишь, сказка говорит:
Чудотворец Аль-Марид,
Наш великий покровитель,
Бед державных избавитель,
В чьих руках огонь и гром,
Коль просить его добром,
К слову ханскому снисходит,
И хотя, бывает, шкодит,
Но не держит и обид,
И, надеюсь, пособит.
Обратись ко власти духа,
Чтобы стала я старуха:
Будет то меня беречь;
Чтоб могла чужую речь
Понимать я как родную,
Огляжу страну иную,
Что создал земли Творец,
И вернуся во дворец».
Хан в сокровищницу сходит,
Лампу медную находит,
Помолился наперед,
И бока сосуду трет.
IV
Рынок, торжища приволье!
Колосится что во поле,
Что взрастает на грядах,
Ветви клонит во садах,
Все, что хрюкает и мычит,
И кудахчет, и курлычет,
Иль молчит в глубинах вод —
Все везет сюда народ.
Коли надобна подкова
Для копытца для конькова,
Вот в ряду стоит кузнец:
Подковал — нужде конец.
Если ж хочется солений,
От похмелья избавлений,
Изнемог — не будь глупцом,
Исцелися огурцом.
Бабе хочется булавки —
Вот тебе четыре лавки,
Каши просят сапоги —
Во сапожный ряд беги.
Ряд калашный, коробейный,
Житный, рыбный, белошвейный,
Следом ряд со свежиной,
А за ним и ряд мучной.
Варсонофий и Коляда
Посреди мучного ряда
За прилавочком снуют
Да мучицу продают.
Надорвались голосами
За железными весами,
Глотки парою дерут,
Но по-божески берут:
Коль купцы ценою грянут,
Так покупщики отпрянут;
Руготня, ряженье, бунт —
По пяти копеек фунт.
Вечер, зорька занялася,
Вся мучица продалася,
Остается полкуля,
Что ценою в полрубля.
Видят братья вдруг: грязнушка,
Колченогая старушка,
Припадая на клюку,
Ковыляет по рядку.
«Я паломница во граде, —
Говорит карга Коляде, —
Мучат немощи, бедна,
Притомилась, голодна,
Днесь и маковой росинки
Не брала я в рот. На рынке
Снеди я авось сыщу?
Щедрость сродна богачу.
Мне бы пищи хоть крупицу.
Ты бы, молодец, мучицу
Мне отдал, что есть в мешку:
Сочень я себе спеку». —
«Ишь чего старуха чает, —
Варсонофий отвечает, —
Да видала ли земля
Подаянье в полрубля?
Вон каков нашелся блинник:
Рот разинул на полтинник!
Не подам золотника,
Загребущая рука!» —
«Что ты взъелся на старушку,
Что ты гонишь побирушку, —
Говорит Коляда вдруг, —
Кто в нужде, тому я друг.
Разживясь, не плачь о кусе.
Отдаю мешок бабусе:
На, держи, да будь сыта,
Да моли за нас Христа». —
Корчит старая гримасу:
«Не могу молиться Спасу.
Почему — то мой секрет,
А худого в этом нет:
Не идет добро за верой.
Я тебе иною мерой
За подарок твой воздам:
Я тебе два камня дам». —
«Что за камни за такие?» —
«Эти камни колдовские.
До поры в душе таи
Ты желания свои,
А захочешь бед избыться,
Попусти мечтаньям сбыться,
Приходи на брег пруда,
Где глубокая вода,
Дай мечте своей свободу,
Брось чудесный камень в воду:
Канет он, падет на дно,
А желанье-то одно
И исполнится мгновенно.
Смел будь, мысли дерзновенно,
Высоко мечту влеки,
Не меняй на пустяки». —
«Стало, камень за желанье?
А второй?» — «На испытанье.
Кто умен, тому всего
Хватит камня одного». —
«Чур нас, — Варсонофий злится, —
Нежить, ведьма, чаровница!»,
А Коляда голыши
Во кошель, где барыши,
Бросил, приукрыл тряпицей,
Да к возочку: вереницей
Ехать час пришел купцам
На большак да по сельцам.
V
Утро, солнце в небо дмется,
Варсонофию неймется,
Ходит, мается в сенях
В думках чудных о камнях.
Говорит он: «Брат Коляда,
Погутарить нам бы надо
О прибытке о моем —
Торговали-то вдвоем!
Ажно жжет мне душу пламень:
Ты отдай один мне камень.
Аль взаправду он чудной?
Разживуся хоть казной:
Мне в дому потребен лишек,
Попрошу себе рублишек.
Я сребра не сторонюсь:
Коль прибудет, так женюсь.
Поисправлю одежонку,
Подыщу себе и женку,
Будет женка — почему
И не жить мне в терему?
Чтоб не маяться при плуге,
Чтоб обед носили слуги,
Чтобы скатерть из парчи,
Чтобы к чаю калачи?»
Говорит ему Коляда:
«Мне добра не много надо,
Мне бы женку да избу,
Мне бы печку да трубу,
Нивку добрую да рамень.
Вот тебе волшебный камень,
Что держу под суровьем —
Торговали-то вдвоем!
Брось мечтанья сумасбродны:
Братовья мы все же родны;
Говорю тебе как брат:
По породе будь богат.
Уродился земледелец —
Так до царских до безделиц
Не протягивай, ей-ей,
Длани алчущей своей.
Не мечтай ходить в халатах,
Ни бездельничать в палатах,
Ни скоплять добро в лари:
Не по роду не бери». —
«Это, знать, мое уж дело:
Жила коль не оскудела,
Так возьму в ней сколь хочу,
Там потужусь, покряхчу,
Да и справлюсь — было б злато,
А где злато — там палата,
Где палата — трон и ларь,
А где трон — сидит и царь!
Хватит, брат, кудель лохматить:
Час копить есть, час и тратить,
Брось варнакать — тщетный труд,
Время нам идти на пруд».
VI
Солнце на небе высоко,
Шепчет ласково осока,
В небе ластицы кружат,
Над водой жуки жужжат.
Ветерок над брегом веет,
То камыш качать затеет,
То позыбит иногда
Гладь покойную пруда.
Варсонофий молвит: «Брате,
Вижу, склонен ты к растрате
Понапрасну барыша,
Неразумная душа.
Так прошу, не будь сквалыжник,
Чародейный свой булыжник
Первый брось, меня вперед:
Может, бабка-то и врет.
Прок в том будет обоюдный:
Я узнаю, впрямь ли чудный
Камень твой, да какова
Сила ведьмы волшебства.
Ведь тебе и надо мало,
Страсть тебя не изнимала
Царским троном овладеть
Да в порфире посидеть.
А надула нас ехидна,
Так тебе и не обидно:
Всяк убыток нехорош,
Но твоя потеря в грош».
Вынул камешек Коляда,
Размахнулся без огляда,
Перевесть успел лишь дух,
Как булыжник в воду бух!
Гладь воды пошла кругами,
Волны плещут берегами,
На версту от озерца
Закачались деревца,
Гром с небес ведряных грянул,
Вихорь пыльный полем прянул,
Стая черная ворон
Меж дубов мятется крон!
И средь этой заварухи
Глас с небес звучит старухи:
«Ну, кормилец, вот и срок
Мне настал сдержать зарок.
Объяви земле и небу
Ты сердечную потребу,
Нег душе и телу холь
Пожелать себе изволь».
Взял Коляда руки в боки:
«Грех на сирых класть оброки,
Но твоя коль может власть
Даровать без горя часть,
Кто ни есть ты, чародейка,
О несчастном порадей-ка;
Вот к тебе моя мольба:
Чтобы встала здесь изба,
Поле, залежь на подсевку,
Да в избу прилежну девку,
Чтобы мне была жена,
С девкой два веретена,
Чтоб рожать была здорова,
Да лошадка, да корова,
Перевясло для снопа
Да коса: моя тупа». —
«Что ж, моя тебе подмога:
Просишь ты себе не много,
Сколь сурово ни суди.
Ну, Колядушка, гляди!» —
Ошарашенный Коляда
Зрит: изба стоит средь сада,
За избою птичий двор,
Вкруг него стоит забор,
Чтоб не разбредалась птица,
Вороток, под ним криница,
А за ней, где полю край,
Банька, рига да сарай.
Огородное разгулье,
Хлев, амбар, конюшня, ульи:
Выйди в праздник на прудок
Да потягивай медок.
Дымоход, примета, к печке,
Девка встала на крылечке:
«Что стоишь равно пенек?
Заходи-ка, муженек».
От ее масляста взгляда
Ажно в трепет впал Коляда,
Распускает армячок,
Шасть — и дверку на крючок.
VII
«Ишь ты, — Варсонофий чает, —
Дурня жизнь не научает,
Я-то, если потружусь,
Поумней распоряжусь.
Камень спрячу я в кусочек
Полотна, сверну мешочек,
Да веревочкой стяну
Во три сажени в длину.
Вот орудие готово:
Время молвить ведьме слово.
Ну, старуха, погоди —
Расстараешься, поди».
За конец берет он путо,
Помахнул десницей круто,
Кинул камень в темень вод —
Волны, вихорь, гром, и вот
Зазвучал из тучи, мнится,
Ведьмин глас: «Твоя должница;
Силой неба и земли
Явью грезы утоли.
Ныне, верная зароку,
Дам тебе без проволоку
Что желаешь — все бери!
Ну, любезный, говори!»
Варсонофий руки в боки:
«Богачи не лежебоки!
Чтоб богатства сочетать,
Надо ж где и обитать.
Мужикам назло, тетерям,
Выстрой мне, старуха, терем,
Белым камнем чтоб сиял,
На пригорке чтоб стоял,
Чтоб торчал над ним как шишка,
При вратах служил ярыжка,
Чтоб на зависть всем кремлям
Галерейки к флигелям,
Коридоры всюду, кои
Во мои ведут покои,
Над колоннами балкон
Да фасад во сто окон.
Для прогулочной услады
Во пристроях анфилады,
Чтоб во мраморе драгом
Девок статуи кругом;
Чтобы эти изваянья
Не имели одеянья,
И дивился люд простой
Их бесстыжей наготой.
Как в латинском Ватикане,
Чтоб при каждом истукане
Рукотворный пруд бурлил
Да фонтан каскады лил.
Сделай зал музыку слушать,
Зал, где спать и зал где кушать,
Предаваться где гульбе». —
«А не много ли тебе?» —
«Э, да ты взялась лениться!
Али ты мне не должница?
Ну, довольно болтовни,
Тягло ведьмино тяни!
Красен долг, да не советом».
Тут плеснуло небо светом,
И на бреге — что за вид! —
Терем каменный стоит.
Глаз услада, святый Отче!
Расстарались, видно, зодчи:
Чиста золота кусок —
И прекрасен, и высок,
Все прилажено как надо:
Своды, шпили, колоннада,
Дверь резная над крыльцом
Да маркиза с кружевцом.
Ставни, лесенки да ниши,
Черепицей крыты крыши,
Водобои воды льют
Во садки, а в них снуют,
Скачут, пенят волны зыбки
И блестят златые рыбки,
Черни стража у ворот
Дать готова укорот,
Бережет сады ограда,
На просторах вертограда
Статуй мраморных не счесть:
Кажут девки все как есть,
Как натура начертала,
Словом, как царям пристало
Поживать себе спокон
За фасадом в сто окон,
Попивая чай да кофий.
Хитроумный Варсонофий
Потянул веревку вспять,
Бросил камешек опять —
Вихорь, гром, грозою полны,
Озерцом гуляют волны,
Птицы пуганы кричат,
Из-за туч слова звучат.
Речет ведьма-невидимка:
«Есть за мною недоимка.
Ну, спаситель, исполать!
Дар какой тебе послать?»
Варсонофий в боки руки:
«Богачи не косоруки!
Чтоб избытком щеголять,
Надо ж чем и управлять.
Я хочу на зависть миру
Государеву порфиру,
Чтоб никто во всей стране
Властью не был равен мне,
Чтоб высоком на престоле
Восседал я, и оттоле
Чтоб на подданных орал
Да темницею карал
Во своей тиранской яри,
Чтобы князи да бояре
Укорялися виной
На коленах предо мной!
Чтоб сосельцы-остолопы
Стали все мои холопы
И несли, как выйдет срок,
Во казну мою оброк.
На соседские державы
Чтоб я мог творить управы,
Чтоб с царем Небийжену
Не дерзали весть войну,
Чтоб, в простор явясь балконный,
Видел я свой идол конный
На столпе и при гербе». —
«А не много ли тебе?» —
«Э, взаймы брать, да невдолге
И забыть своем о долге,
Наживаясь на чужом?
Долг верстают платежом!
Обещалась, так умри хоть,
А мою исполни прихоть,
Порядилась — не пеняй,
Посулилась — исполняй!»
Небом солнышко кочует,
Варсонофий лба не чует:
Головенка тяжела.
В воду глянул — ну дела!
Как на дереве ворона,
На башке сидит корона
Весом, верно, в полупуд,
Стан в шелках, в сафьян обут,
На оплечье закрепленный
Адамантом плащ червленый,
Да жемчужный поясок
Съехал чуть наискосок,
Потому мешает пузо.
Ну да роскошь не обуза!
Смотрит царь за крутояр:
Катит дюжина бояр,
Чресла гоном утруждает,
На колени упадает:
«Милость царскую содей,
Нами правь и володей!»
Варсонофий их встречает,
Ждать наказов поручает,
Отсылает во чертог
И велит пождать чуток.
Сам же, ловкая прокуда,
Тянет камешек из пруда,
Мечет в воду, хитрый бес.
Гром и глас звучат с небес:
«Ну, любезный благодетель,
Долг за мною, ты свидетель.
Откупиться разреши:
Что желаешь для души?»
Варсонофий руки в боки:
«Знать, цари не одиноки!
Поручилась — награждай,
В жены мне царевну дай,
Да не нашенской породы,
А чтоб ведали народы
Всей земли, аж за лесок,
Сколь я знатен и высок,
Чтоб озноб пошел по шкуре!
Я слыхал, на речке Куре
Изобильно царство есть,
Злата в нем не перевесть,
Мир дивит оно вседневно,
Там дворец, а в нем царевна:
Женка будет хоть куда!
Так подай ее сюда!»
Громыхнуло небо глухо,
Перед ним стоит старуха
В дыма белой пелене:
«Женишок сыскался мне.
Что же ты, мой нареченный,
Чем-то, мнится, удрученный?
Поручился — не тужи,
Слово царское держи;
Получай чего желаешь,
Только, друг любезный, знаешь,
Я хочу, душой любя,
Предуведомить тебя.
Мы, царевны, испокону
Замуж ходим по закону;
На него не смей пенять —
Не тебе его менять.
Мой закон в отцовой воле,
И пребудет в ней, поколе
Царству нашему стоять,
Вере праведной сиять.
Он потомок Сулеймана,
Не прощает он обмана,
Не спускает и греха,
А увидит жениха,
Что помыслить он изволит?
Он-то алчным не мирволит,
Хоть при дочери самой;
Так-то, друг любезный мой.
Да еще, сюрприз кой скверный:
Ты пред ним гяур неверный,
И чтоб веры не сквернить,
Он велит тебя казнить». —
«Да ты кто такая, жаба,
Полоумная ты баба,
Что грозить взялась царю?
Прочь с дороги, говорю!
На тебе ли мне жениться?
У меня крепка десница!
Сгинь, карга, перешибу
Царским жезлом по горбу!» —
«Не упомнишь, государе?
А намедни на базаре,
Как мучицей торговал,
Бармы ты не надевал,
Укрывая плоть холстиной,
Да пожадничал полтиной,
Да замыслил людям лих,
Да обманом стал жених,
На несродное польстился
Да в злодея обратился;
Что ж, готовься, да не плачь:
Точит меч уже палач». —
«Ах ты нехристь, басурманка,
Шельма, злая лихоманка,
Захотела палаша,
Сарачинская душа?
Я здесь царь самодержавный,
Венценосец православный,
Что мне, ведьма, твой Аллах!» —
Глядь: а ноги в кандалах!
Смотрит на себя во страхе:
Он стоит в простой рубахе,
Чует, шея не вольна:
Цепь легла на рамена.
Где чертог стоял богатый,
Пажить пала: скот рогатый,
Погоняем пастушком,
В стойла тянется гуськом.
VIII
Тут, явившийся за тучей,
Пал с небес ковер летучий,
Верный тайной силе чар;
На покрове янычар,
Азиятская подушка
Да уемиста кадушка:
Где ночлег найдешь, бог весть,
А и там придется есть.
Варсонофия за шкирку
Взял служивый да впритирку
До кадушки притулил.
Бедолага заскулил:
«Ты прости мне, агарянка,
Я не знал, что ты дворянка,
Ярь унять не стало сил,
Удила и закусил». —
«Нет тебе, злодей, пощады!» —
Тут раздался глас Коляды:
«Бабка, бабка, погоди,
Чародейка, пощади!» —
То Коляда из избушки
Прибежал на крик старушки;
Продолжает он: «Ей-ей,
Властью вышнею своей
Пощади дурного смерда,
Будь к виновну милосерда:
Чай, алчба вина не та,
Чтоб лишаться живота?
Иль прибыток, иль утрата:
Нету жизни мне без брата.
Не отринь моей нужды!» —
Да и в ноги ей. — «Лады!
В путь пускалась я недаром:
Потолкалась по базарам,
Старцев зрела и юниц,
Благонравных и блудниц,
Щедрость видела и жадность,
Жар сердечный и прохладность,
Вашу веру и народ:
Все у вас наоборот
Против наших философий.
Подымайся, Варсонофий,
Больше чем берут цари —
Волю вольную бери!
Не теряй, как царство, волю,
А весной по чисту полю
Проходи да сей зерно,
Как у вас заведено.
Не судьба нам и жениться,
Но осталась я должница:
Коль от камня моего
Ты не примешь ничего,
Дело кончится обманом.
Трудно пред отцом-султаном
Оправдаться будет мне:
Мотовство урон казне.
Заслужил — испей и чару, —
Обернулась к янычару, —
Поднеси ему пока
Ты мучицы полмешка».
Басурманин взял кадушку,
Дернул крышечку за дужку,
Куль приносит лиходей,
Вдвое полного худей.
Говорит ему детина:
«Твой мешок, твоя полтина.
Сбудешь завтра на торжке
Да и спустишь в кабаке».
Тут старуха усмехнулась,
Красной девой обернулась:
Где топырились власы,
Побежал ручей косы,
Полились шелка вдоль стана,
И прекрасна, и румяна,
Как заря небес нежна
Разом сделалась она,
С лаской кроткою во взгляде
Поклонилася Коляде,
Сотворила заговор
И ступила на ковер.
IX
Варсонофий сказку эту
Мне поведал по секрету
Во кружале вечерком,
Как случился мне знаком.
Сколь греха ни устыжался
Своего, а не сдержался,
Зарекался я не пить,
А пошел в кабак кутить.
Увидал в корчме детину;
Штоф при нем ценой в полтину,
Сам в слезах; подсел и я:
«В чем, горюн, печаль твоя?»
Отвечает мне пьянчужка:
«Миска щей да водки кружка —
Вот и весь мой капитал». —
«Отчего ж ты беден стал?» —
Варсонофий тут помялся,
Покряхтел да поломался,
Да и буркнул: «Удружу,
Ладно, сказку расскажу.
Не захочешь — не поверишь,
Небылицу не проверишь,
Несусветна, знать, зане:
Было раз виденье мне
О моем преглупом брате,
Как погряз дурак в разврате,
Возжелавши стать царем,
Хоть родился плугарем;
Так не нажил и корыта!
Но да будь меж нами скрыто,
То, что я тебе скажу:
Брата я не осужу,
Но печалюсь поневоле
О его несчастной доле,
Все тужу: хотя и сон,
Как бы вещим не был он.
Горько мне, что брат мой беден,
Полурупь пропит-проеден,
Помоги хоть пятаком».
Я пристроился тишком,
Да с таимою тетрадкой,
Да записывал украдкой,
Да и выменял вот так
Эту сказку на пятак.
X
Говорит поверье, сказка
Глупым отрокам указка:
Как услышат, так меж врак
Кой отыщут обиняк.
Если б так и было дело,
Тьма бы юношей сидела
Над преданьями веков —
Только нету дураков!
Верно только, что отвеку
Сказки любы человеку,
Если ходят меж людьми,
А почто, поди пойми.
Разумеют их как хочут:
Те над сказками хохочут,
Тот напустит важный вид
Да мораль приноровит.
Я ж морали не ревнитель,
Сказок я не сочинитель,
Хром пером, подай костыль,
Мне состряпать легче быль.
Вижу, криво получилось,
Но уж коли так случилось,
Пусть уже стоит, как есть:
Сказку скласть — не лапти сплесть.
https://morgulis.livejournal.com/330465.html
2023-07-21 04:53 morgulis
https://morgulis.livejournal.com/330063.html
2023-07-20 07:04 morgulis
https://morgulis.livejournal.com/329914.html
2023-07-02 21:32 morgulis
УЕЗДНЫЕ АМУРЫ
I
Мир на земли, во человецех
Благоволение вкуси,
Ямщик, кочуя не во грецех,
А по стезям святой Руси.
Минуй тебя сарынь лихая,
Метели, волки, темь и хлад,
Чащобы глушь и вязи блат,
Незнамый путь и жадль сухая,
Плутанье степью наугад,
Поколь не встретится посад,
А там и станция ямская,
Постель и сыть, тепло, покой,
И дрема, зелье от тревоги,
А с утра сызнова дороги,
Пути губернии Псковской.
Подковы изотрешь о кочки,
Когда в Печеры от Опочки
Домчишь, бывало, во три дни:
Гони, и Бог тебя храни!
Устав, терпя от почечуя,
В трактире нищем заночуя,
Разговоришься за столом
Бессытным над своим обедом
С каким проезжим гужеедом
О жизни, веке о былом,
О том, что худо хрен отварен,
Кисель воняет спорыньей,
Уха с плотвейной чешуей,
О том, хорош ли новый барин,
Иль, как отец, свинья-свиньей,
Долготах наших территорий,
Где как не слякоть, так туман;
А я, охотник до историй
И, грешным делом, метроман,
Угревшись возле поддувала,
У собеседника, бывало,
Просил из памяти подвала
Извлечь исторью на предмет
Сердец волнующих влечений,
Людских приязней, злоключений
Для литераторских замет.
Однажды, на рыдване драном,
Застигнут вихристым бураном,
И с капиталом в три рубли
Застряв в деревне Грибули,
В корчме я быль услышал эту;
Явить ее хочу я свету,
Но прежде, чем о ней судить,
Читатель мой, предупредить
Тебя желаю: мой доносчик
Был Пантелей, господский возчик,
Что был обидой обуян,
А сверх того, упился пьян.
Однако скажем, то не диво,
Что та история правдива:
Четыре были в ней весьма
Прелюбопытные письма,
Доднесь о коих ходят слухи
По деревеньке Лысы Мухи,
Хоть пепел их, игрой судеб,
Пожрала хлябь реки Кудеб.
Начну рассказ мой летописен
От двух приветных этих писем,
Поведав тайну, как от них
И барич сделался жених,
И стары други еле-еле
Избегли смертныя дуэли,
И, роковым порывам вспять,
Друзьями сделались опять,
Как, прежде в службе безупречен,
Был кучер понарошку сечен,
Как, бесписьменный, оплошал,
Служить не годен в эстафете;
Однако ж, сохрани в секрете,
Что я был тот, кто разглашал.
Когда иное скажешь в свете,
Чего не в силах скласть под спуд,
То пустомели понесут
На шептунов неправый суд,
И сам окажешься в ответе:
Поди заткни дыряв сосуд!
Страшись писать глумливо нравы,
Когда твои герои здравы:
Молва кривой тропой идет,
Они намедни привечают,
А днесь, проведав, осерчают,
И на тебя их гнев падет.
II
Кудеба поймы у краюхи,
Где бедренец цветет духмян,
Стоит деревня Лысы Мухи
От незапамятных времян.
Реки за выгибом, где броды,
Луга, над ними огороды,
Да сенокосы, да садок,
Да изоб рубленых рядок.
Стоят, коровьим мыком шумны,
Хлева, а там овины, гумны,
Церквушка, банька. Над прудом
В саду стоит господский дом,
А в нем, Господней волей вещей,
Заботной жизнию помещей
Живет хозяин сих земель
Иван Евлампиевич Шмель.
При нем, сварливая кутафья,
Его супружница Агафья,
С ней сенных девушек конвой,
С какими та всегда бранится,
Коль что не сыщет в кладовой,
Да Пантелей, его возница,
Да кот, гоняемый взашей
От кухни, чтоб ловил мышей.
А на задах его именья,
Где березняк, разлив травы,
Ручей, осока, ямы, рвы,
Тенето троп среди каменья,
Шмеля владений где тылы,
Встает селение Козлы:
Грушовник, зарости смороды,
Сараи, риги, огороды,
Да на холме, невысока,
Обитель здешнего князька.
Земель тех полный володетель,
И управитель, и радетель,
Иванов был сосед и друг,
Фома Петрович Полукруг.
Вот, озирая строй амбарен,
Домой с обедни едет барин,
При нем и верная жена,
Мария Лавровна. Она,
Коль речь о барыне заходит,
Ревнивым мужем верховодит,
И тот супруге поперечь
Почасту не дерзает речь.
Как посравнишь Фому с Иваном,
Немало сходного узришь:
Фома с медалью за Париж
В отставку вышел капитаном,
Иван в отставке моэор,
Во дни былые в поле бранном
Летал отчаянным уланом,
Что твой небесный метеор,
Грозя поганым басурманам;
Его во чреве сундука
Есть крест за штурм Базарджика,
Каков Фома и ставит ниже
Чем покорение Парижа,
Но то в былом. Они с тех пор
Осели всяк во свой во двор.
Иван рыбак, Фома охотник,
Скиталец чащами лесов,
Иван теплиц своих заботник,
Фома борзых разводит псов,
И за столом коль делит часом
С соседом полевой трофей,
То говорит Фома: «Ей-ей,
Что будет рыба перед мясом,
Иван Евлампиевич, ну!» —
«Фома Петрович, я дерзну
Вам возразить: а сом? а щука?
А язь? а окунь? а снеток?
Подвяль его с дымком чуток,
Да и в ушицу, и в роток!
Уженье тонкая наука,
А вы, в мочажинах снуя,
Палите в уток из ружья!» —
«Иван Евлампиевич, право,
Как дворянин и кулинар...
Сказать что сыть моя отрава?
Вы грубиян! Вы карбонар!
Бурбон! А если с той подливкой?» —
«А не послать ли за наливкой?» —
«Акулька, эй! Наливки, ну!
Ох, зелье! Дай еще хлебну!
Густа, настояна шалфеем,
Врачует души что елеем,
Да что ж вы, ешьте ветчину!»
Когда же в доме у Ивана
Друзья за чашею хмельной
Сидят средь пира разливанна,
Беседа путь берет иной:
«Вот вы, Фома Петрович, вроде,
Хотя хозяин хоть куда,
Однако, что за ерунда
Растет у вас на огороде?
У мужиков моих горох,
И лук, и тыква, и петрушка,
Их в расстегай с грибками, ох!
В моем дому и в пост пирушка.
А ваш надел возьму в пример:
У вас-то в видах мясопуста
Одна капуста да капуста,
Да и у той с вершок размер.
Да вы себя не горячите,
С моим хоть яблочком сличите:
Равно калибром кочану!» —
«Иван Евлампиевич, ну!
Что вы расквакались как жаба?
Капуста должного масштаба,
И на уставную длину,
По чертежам агрикультуры,
А вот, к примеру, ваши куры
При вашем птичнике дрянном...» —
«А не послать ли за вином?
Домашней гонки, в вашем вкусе». —
«Зачем бы нет? А ваши гуси...»
Но здесь, читатель мой, предлог
Я нахожу себе резонный
Прервать их дельный, не лишенный
Благоприязни диалог —
До болтовни мы все охочи,
Бытописателю нет мочи
Остановить перо свое,
Изображать житье-бытье,
Чужие яства и питье,
Пока читатель смежит очи
И погрузится в забытье:
Интриги нет, в сюжете бреши,
А между тем, уж две депеши
Нас ждут, соседей два письма...
III
«Любезный мой сосед Фома!
Я к вам пишу сейчас посланье,
Вечор не мог, минуты нет
В покойный выйти кабинет:
С женой да ключником совет,
Каков будь завтрашний обед;
Гуся отправил на закланье:
Все лучше, чем лесная дичь,
Но, наконец, прикрыты флеши,
И приступаю до депеши,
Как только смог стола достичь.
Вы говорите с важным видом,
Что-де вольтеровым Кандидом
Сейчас весьма увлечены,
Но при сметливости простецкой
Вы с метафизикой немецкой
Отнюдь в сужденьях не дружны.
Вам, православному и россу,
Внимать не следует Панглоссу —
Таков ответ мой вам суров;
И усумнишься, утверждая,
Хозяйство ваше наблюдая,
Что сущий лучший из миров:
Не всяк фонарь источник блеска,
И вам читать внушаем мы
Труды Кемпийского Фомы,
К тому же, оный вам и тезка,
Сей благомыслия ручей.
Писать кончаю, жаль свечей,
Агафья Львовна осердится.
А кстати, надо же случиться,
Что к нам, давно уж в гости зван,
На днях приедет сын Иван:
Придется мне посуетиться!
Одних изборских кренделей
Пришлось купить на пять рублей,
И будет месяц здесь гоститься.
Мое посланье Пантелей
Доставит завтра спозаранок.
Но какова цена баранок!
По пять копеек за одну!
Пойду часок-другой вздремну,
Пока в печи томится лещик.
Соседский друг ваш и помещик
От лет минувших и досель,
Иван Евлампиевич Шмель.
Точит манящи кухня духи!
Дано в деревне Лысы Мухи,
Июлия седьмого дни,
Прощай, Господь тебя храни».
IV
«Иван, сосед и добрый друг,
И собеседник регулярный,
Прости, что долг эпистолярный
Отдать мне было недосуг.
Минуты нет, как говорится,
И посуди, сколь занят я —
Мария Лавровна моя
На Машу, дочь мою, ярится:
Мошна-то наша не без дна,
Отнюдь напротив, а она,
Читая вздорные романы,
Какие я б желал известь
За сердцу пагубны дурманы,
Себе желает приобресть
То юбку новую, то шальку,
То на цепи златой медальку,
А где доходец взять, бог весть!
Беру, однако, в деле данном
Отнюдь не сторону жены;
Тяжки издержки для казны,
Но надо думать о приданом:
Вчера отроковица — хвать,
А днесь и замуж отдавать.
Пора и показаться в свете;
И женишок есть на примете
У нас: в Загорьях одинок
У Фрола Саввича сынок.
Из Пскова выписал ей ленты,
Корсет, на платья позументы,
Да гродетур, да шелков плат,
А я в един одет халат.
И, пополняя арсеналы,
Скажу, что верно искони:
Да будут прокляты они,
Все эти модные журналы,
От них нас Боже сохрани!
Откажешь — слезная обида!
Обедать? Нет, занемогла!
А что до вашего стола,
Так я скажу вам не для вида,
Что даже малая завида
Не помутит моей души:
Бекасы очень хороши,
Особо с гречневою кашей,
Да притомить их с простоквашей —
Не то что ваши, чай, ерши,
А радость чистая Господня!
У нас зайчатина сегодня:
Вчера на пожне, у стожка,
Удачей жалован особой,
Сумел я с Божией подсобой
Добыть к обеду русака.
Вообразите, тихомолком
С утра по лесу рыщу волком,
Часы проходят, а пока
В ягдташе нет и кулика.
Шалишь, охотничья удача!
Петляю, жребий свой дурача,
С фортуны требую реванш,
Из леса к займищу сквозь ивы,
Кляну укусы от крапивы,
И тут проворный мой Мальбранш
Поднял косого, да как прянет!
Ушастый петли к лесу тянет,
Ложбины, кочки, травы чрез,
Тут Кондильяк наперерез!
Травят, летят неутомимо,
Я вперехват, стреляю: мимо!
Ах, черт! Еще одна петля!
Огонь! Победа! Кобеля
Несут ко мне мою добычу.
Давно я вам, мой друг, талдычу,
Что дичь не ровня пескарю,
Но что ученье дикарю?
Сравнить ли можно квас и кофий?
А что до ваших философий,
Так я вам честь имел давно
Сказать, что мне от них смешно.
Себя считая жизнелюбом,
Я в недоверии сугубом
Встречаю всяк унынья глас:
Исполнен благом мир подлунной,
Щедры дары его, фортуной
Переводимые на нас.
Кто льет элегий уксус скверный,
Тот предо мной Фома неверный,
Будь он мне тезкою стократ;
О том готов за добрым штофом
С любым поспорить философом,
Хотя б и был он сам Сократ.
Кто Провиденье почитает,
Отрады знает бытия,
И, кстати, точно так считает
Мария Лавровна моя.
Один ликер мой абрикосный
Столь блага в сердце утвердит,
Что даже птичник ваш несносный
Меня в нем не разубедит.
И кстати, мысля о ликере:
Ведь вы, при вашем визитере,
Меньшом Иване, вы б могли
Нас посетить со всем семейством,
А мы б своим эпикурейством
Печали ваши развели.
На что в дому и скатерть брана?
Агафью Львовну, и Ивана,
И вас мы примем, веселы.
В деревне писано Козлы,
Во день июлия девятый,
Приязнью к вам всегда богатый,
Сосед, родитель и супруг
Фома Петрович Полукруг».
V
Ах, деревенские досуги!
Меж вас отрады выше нет,
Когда за стол единый други
Сойдутся разделить обед!
Светлы парадные покои,
Стоят шпалерами настои,
Шеренга штофов строй теснит
И метит дулами в зенит.
Фомы Петровича стряпухи
Мешают суп, пекут ватрухи,
Томится каша в казане,
Шипят на противне котлеты,
Струят чесночный дух рулеты
И тесто дыбится в квашне,
В печи пирог доходит сдобный,
Каплун насажен на вертел,
Румян, пупырчат, пышнотел,
Имбирный соус загустел
И вызывает зуд утробный,
И хвостик кверху вознеся,
Лежит на блюде порося.
Хозяин зол, мятутся слуги:
Довольно ль меду и сластей?
Желают с честью Полукруги
Принять разборчивых гостей:
Повинность дружбы — хлебосольство,
Хоть разорись во прах и пух!
Меж тем в Козлы из Лысых Мух
На бричке движется посольство,
Чтоб справедливый, по трудам,
Чужой поварни суд плодам
Вершить: приязненности струи,
Объятья, шутки, поцелуи,
И старший Шмель уже готов
Подвергнуть смотру первый штоф.
Затем черед идет закусок,
Вдругорядь штоф, за ним огузок,
Не отставая на вершок,
На стол является горшок
Селянки, жаркий словно тигель;
Мария Лавровна за флигель
Садится, дланей быстрых взмет —
И вальс по комнате плывет.
Читатель мой, вели представить
Мне передышку в два словца,
Чтоб мог к рассказу я приставить
Два важных в действии лица.
Пока музыка, разгораясь,
Гостей забавит, веселя,
Изобразить я постараюсь
Ивана, младшего Шмеля.
Былой пострел, привадчик взбучек,
Блюдя обычаи семьи,
Он рано конный стал поручик
И в лета малые свои,
Во званьи бывши адъютантском,
Баталий уж нюхнул дымку,
Служа в Лейб-гвардии Уланском
Его Высочества полку.
Но, преуспев на службе царской,
Он малолетства удальство
Не позабыл, и для него
Порыв желанья своего
Был тою силою бунтарской,
С какой не сладит ничего.
Как польских минул час сполохов,
При сабле Аннинской за Грохов,
Рубец чтоб ратный залечить,
Успел он отпуск получить,
И вот с израненной десницей
Его в светлице видим мы
Сидящим с дочерью Фомы,
Какую помнил отрочицей.
Марья Фоминична с тех пор
Похорошела: томный взор
Очей лукавых, гибкость стана,
Ланит упругих гладь румяна,
Смоль брови, словно два крыла
Раскинул ворон у чела,
Свободно льющийся на плечи
Власов текучих водопад...
Иван лишился дара речи:
Какая выступка, наряд!
Его скользит невольный взгляд,
Восторжен, полон изумленья,
Невинность девы не щадя,
Ее по стану, находя
То персей плавные всхолмленья,
То шеи трепетной изгиб...
«Во крепость враг вступает строем! —
Его несутся мысли роем, —
Твердыня пала! Я погиб!
Какая туфелька мелькнула
И под подол сокрылась вновь!
Неужто надо мной сверкнула
Слепящей молнией любовь?»
Он огорошен, он нескладно,
Не поднимая головы,
Неловко шутит: «Мне досадно
Служить не в вашей свите... Вы
Меня, должно быть, позабыли». —
«Мы с вами, кажется, на ты?
Немудрено: за две версты
Живя, приятели мы были.
Я помню, как до темноты
С тобой в саду играя в прятки,
Я побежала без оглядки,
Желая спрятаться в кусты,
Как в тайнике мне не сиделось,
И — прихоть странная! — клоня
У груши ветку, мне хотелось,
Чтоб обнаружил ты меня.
Причуд исток бывает странен,
Сокрыт, иль вовсе нет его.
Ты был в чужбине, ты был ранен,
Но о тебе я ничего
За эти годы не слыхала,
Хотя тревога не стихала
За друга детства моего.
Когда ж мне счастье улыбнулось
Безвестность разогнать как дым,
Былое вдруг ко мне вернулось
Воспоминанием живым». —
«Когда былой приязни детской
Так память давняя жива,
К чему любезности слова?
С бесцеремонностью соседской
Хочу я вас уговорить
Мне радость танца подарить,
Как верный знак конца разлуки!»
Но только их сомкнулись руки,
Как вихорь вальса вдруг ослаб:
Музыка кодою плеснула,
Мария Лавровна зевнула
И, громыхнув, закрыла клап.
VI
Огонь любви не знает меру,
Паля чем долее, тем злей,
И молодому офицеру
В просторной горнице своей
Неймется: встал он, снова ходит
От шкапа к печи, сел к столу,
Идет к окну, чело к стеклу
Прижал, глядит в ночную мглу.
Все больше прелести находит
В Марии он. Мечта уводит
Его в чарующий туман,
В его сознание дурман
Пленяющих видений входит.
Он до рассвета сна лишен;
Глаза закрыл — и снова он
Воспоминает, как перстами
Он удержал ее ладонь,
Прощаясь, как блеснул огонь
В очах ее, когда устами
Коснулся он ее руки...
Вкруг свечки вились мотыльки,
Чертя петлистые зигзаги;
Решившись, сел он за бюро,
Макнул в чернильницу перо
И замер над листом бумаги.
VII
Поэтов слогом говоря,
Ночного час верша привала,
Над миром дремлющим вставала,
Сияя, алая заря.
Уже, разбужен враньим граем,
Агафьи Львовны наглый кот
Крадется тайно за сараем,
Ища путей наделать шкод,
Уже пропел побудку кочет,
Уже покосник косу точит,
Уже в подойнике, тонка,
Играет струйка молока,
Замеска хлебная почата,
Уже по травным по волнам
Лугами к сохнущим копнам
Спешат ватагою девчата,
Скрежещет ворот студенца,
Пастух коров ведет еланью,
И наковальня подо дланью
Уже запела кузнеца.
Иван прикрыл опухши вежды.
Письмо лежало перед ним.
Отныне ждать, неутомим,
Он будет, мучим и блазним
Неверным мороком надежды.
«Сколь ждать ответа, день ли, два?
Смятенье, кругом голова
Идет, дышать могу едва,
Терзают дух геенны черти!
Присужен к счастию иль смерти
Я буду? — мыслит он, — но вдруг...»,
Выводит вязью на конверте
«Секретом, Марье Полукруг»,
Возницы усталь не жалея
(Тот спал едва ли три часа,
Корпев над чинкой колеса
Всю ночь), он кличет Пантелея:
«Впряги Шамфора рысака
Во дрожки наши ездовые,
Гони в Козлы, как если б змии
Тебя кусали за бока.
Вручи письмо мое Марии,
Мне услужи единый раз:
Дорога, слава Богу, близка,
Да бди, чтоб наша переписка
Избегла взора чуждых глаз».
И вот неистовым карьером
Письмо любовное с курьером
Уже несется во весь дух,
Летя в Козлы из Лысых Мух.
VIII
Фома Петрович до рассвета
Покинул брачную постель,
Поднял людей, сказал скудель
Снести в подполье, у бешмета
Полу поправить, два запрета
Издал кухарке, кузнецу
Велел замок чинить к ларцу,
А после ладу дать и шкворню,
Затем еще раз скликал дворню,
Приставил девку к казанцу,
Cказал коням свезти сенцу,
И, поумаясь, затворился
В светелке, счет вести рублям,
На пир истраченным: «Шмелям,
Хотя едва не разорился,
А не явил я слабину!
Иван Евлампиевич, ну,
Философ, ась? Что, зол, дружище? —
Бубнит он, — экие деньжищи!
Знай, брат, потуг своих тщету»,
И охнул, подводя черту.
IX
Мария Лавровна сидела
В покойных креслах. В этот день
Ее главою овладела
Докучной гостьею мигрень.
Не знав от оной средств леченья,
Чтоб гул в висках угомонить,
Она решилась применить
Душеспасительного чтенья
Лекарство верное. Сундук
Открыв, взяла, благоговея,
Посланье Аввы Дорофея
Ко брату, впавшему в недуг,
Прочла, что здравья преткновенья
Суть смертных знак повиновенья,
Что се небес благословенья,
Но тут в сенях раздался стук.
«А, Пантелей! До одуренья
Меня доводит хворь мигренья,
Гнетет и душит, как ярмо.
Что встал как при архиерее?
Чего тебе? скажи скорее!» —
«Винюсь, от барина письмо». —
«Ивана?» — «Да». — «Должно, для мужа». —
«Нет, вам, секретное к тому же». —
«Секретно? Боже пощади!
Ну что ж, давай его, поди».
Мария Лавровна невзгоду
Душой почуяла своей:
Иван Евлампиевич сроду
Не направлял посланий ей.
Секретно! Вытерпеть нет мочи,
Сподвигнуть что его могло б?
Она читает, и на лоб
Жены почтенной лезут очи,
Она сидит, потрясена,
Она лишилась дара речи,
И мнит, что Божия на плечи
Ей кара падает страшна:
«От любострастья безрассудства
Иван Евлампиевич, вы
Повергли дух во грех распутства,
В разврат! Так вот вы каковы!
Подлец, злокозненный вития,
Ничто вам жизнь и честь моя,
Ко мне стремитесь вы, тая
Под маской агнца жало змия.
Но верной снесть удар дано!
Письмо...» А впрочем, вот оно
До слова:
X
«Милая Мария,
Вам написать решился я,
Ведь мы старинные друзья,
Едины их воспоминанья,
Меж них дозволены признанья;
Откроюсь вам: душа моя
Одно страданье болевое,
Вся исступленье роковое,
И не могу предать словам,
Как гулко бьется ретивое
На этой исповеди вам.
Не в силах правды уклониться,
Не сокрывая ничего,
Я вам решаюсь изъясниться
В порывах сердца моего.
Известны вам мои заботы:
Фамильной вотчины работы,
Меж кухней служба да людской:
Агафья Львовна там полковник;
Ее приказам не толковник,
Я впал в хандру и непокой
С начала жизни деревенской,
Стал сплин меня обуревать,
И, удручен тоской вселенской,
Неясный, светлый образ женской
В воображеньи рисовать
Я начал. Сердце вдруг заныло,
Озноб, волнение в крови:
Как знать, оно ли искрой было,
Зачавшей пламя к вам любви?
Явь превозможет небылицу,
В кой чад мечтаний отражен:
Я был с семьею наряжен
К вам в гости, вы вошли в светлицу,
И был я в сердце поражен.
Какая талия! А руки!
И Боже правый, что за грудь!
Какой восторг! Какие муки
Не ведать счастия прильнуть
Устами к ней! И обузданью
Не в силах дух смирять и гнуть
От невозможности лобзанью
До вашей ножки досягнуть.
Не могут тайну человеки
Хранить в бескрайности времен;
Пусть безрассуден, неумен,
Но сознаюсь: люблю навеки
Я вас, Мария! И теперь,
Как воин, собранный к походу,
Готов к любому я исходу
Из двух: победы иль потерь
От силы гибельной. Граница
Меж них, как жила тетивы,
Тонка. Мария, склонны ль вы
Со мной в объятьях съединиться,
Или вослед горячки кар
Отказа ждет меня удар?
Ответ желанный сердце чает,
Но счастье путь тернистый ждет:
Фома Петрович осерчает,
Неравно в бешенство впадет,
Узнав, что деял я секретом,
И потому о деле этом,
И так опасном, не дерзну
Еще инстанцию одну
В известность ставить. Что ж, решитесь!
Попрать закон не устрашитесь,
Что завещали нам отцы.
Светает. Щелкают скворцы
В саду. Кончаю к вам посланье.
Услышать ваш певучий глас,
Сказать люблю вам, видеть вас —
Мое единое желанье,
И рядом быть, зван иль незван.
Из Лысых Мух, весь ваш Иван».
XI
Мария Лавровна слонялась
Гостиной, бледная как тень.
Полютовав, угомонялась
В висках бесовская мигрень.
Ее сознанье оживает,
Прочнеет дух, яснеет ум,
Но следом рой тревожных дум
Ее главой овладевает:
«Сознаться мужу? Нет, нельзя,
Сия губительна стезя:
Смекнет он, что мы были близки,
Что повод я к письму дала,
Что я жеманством страсти низки
В соседе блудном разожгла,
Что с ним была я в переписке!
Нет, козням ада долг и честь
И тайну нужно предпочесть!»
Мария Лавровна решилась
Подняться в горницу. Засов
Надвинув, у стенных часов
На циферблат перекрестилась,
Наставив душу на добро,
И из ларца взяла перо.
XII
Проходят дни, проходят ночи,
Любови муки все жесточе,
Несносны тяготы мает
Души влюбленного Ивана,
Его томленье непрестанно,
Он ждет письма, но почты нет;
Встречает новую денницу
В известий горестной алчбе,
И нерадивого возницу
В который раз зовет к себе:
«Эй, Пантелей! Мое посланье
Вручил ты барыне?» — «Ну да». —
«И что она?» — «Да что всегда:
Иди, мол, в голове зуда,
Не в духе, право, наказанье!» —
«Никто не выведал?» — «Ага,
Отдал, да вся и недолга».
Долготерпенью есть граница,
И, изнурен судьбы игрой,
На штурм решается герой.
Тебе, читатель мой, плениться
Случалось девою? Тогда
Его поймешь ты без труда.
Объяла полночь свод звездистой,
Луна сочила свет скупой,
Рои светил басмою чистой
Легли Батыевой Тропой,
Творца и душ творя сближенье;
Все погрузилось в тишь и тьму...
Но слышно тихое движенье
В Фомы Петровича дому.
Марье Фоминичне не спится,
Ее затеплена свеча,
Слеза сбегает, горяча,
Ее ланитою. Страница
Руссо романа перед ней
Который час одна и та же
Не перевернута, и даже
Платок сырой лежит на ней.
«В неволе голубице сизой
Не жить, — ей мыслится, — любя
Другого, душу тем губя», —
Марья Фоминична себя
Воображает Элоизой,
И, доле о своей скорбя,
Рыдает: в августе, в Успенье,
Ко Фролу Саввичу в именье,
Ко сватьям будущим на суд
Ее неволей повезут,
А там в уклон к венцу дорожка.
Тоска... Но чу! Стучат в окошко.
Она, спасаема судьбой,
Ивана видит пред собой!
Идет, украдкой входит в сени,
За дверь, крылечка на ступени,
Летит как лист, грозой гоним,
Мгновенье — и стоит пред ним:
«Иван!» — «Мария! Ты посланье
Мое прочла? Узнать о том
Мое единое желанье,
Клянусь Спасителем Христом!» —
«Прочла! Коль чувствам нет преграды,
Читают их едины взгляды,
Неизреченное полня,
Что не изложишь письменами.
Судьба чтоб сжалилась над нами,
Укрыв охранными стенами,
От сватовства спаси меня
Соседа чуждого». — «Ручаться
Готов я верностью моей,
Но ждут меня чрез десять дней
В полку... И если обвенчаться,
Хватило б места нам с лихвой
В моей квартирке полковой». —
«Ты небом послан мне случайно!
Но сладить как?» — «Венчаться тайно!
А что, затея не глупа:
Отец мой в Палкине попа
Отменно знает. Сей Савелий,
Слыхал, до мзды охотник велий.
Судьба сыновнего венца
Ужель ничто в глазах отца?
Путь ко венчальному подножью
Отверст родительским добром,
А тем, над кем собрался гром,
Вкусить кто чает милость Божью,
Подчас мостится серебром».
XIII
Неизмогаемы, угрюмы,
Неотступимы словно хмель,
Сколь тяжко совесть гложут думы!
Иван Евлампиевич Шмель,
С тех пор, как сын ему признался,
Извелся так, что невзначай
Набил, забывшись, в трубку чай
И раскурить ее пытался,
Но, поперхнувшись, костерить
Судьбу такими стал словами,
Какие я б и мог пред вами
Явить, да стыдно повторить:
Поставим точки, дея чинно —
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
«Отказ? Согласье? Все едино!
Пропал, — он мнит, — но для чего
Губить мне сына моего?
Соседа ради? Нет уж, дудки!
Ему казарки все да утки,
А ты поди поймай язя!
Фома Петрович, нет, нельзя
Со мной шутить такие шутки!
Далече ль глумнику до бед?
А ваша спесь? А ваш обед?
Одних французских вин три вида,
В каких вы толком ни аза,
Чтоб только пыль пустить в глаза:
Обида, горькая обида». —
Иван Евлампиевич встал,
Раздумьем боле не томимый,
Сыскал в столе он ключ таимый,
Из сундука мошну достал,
Итог сочтя венчальной сметы,
В кошель отсыпал он монеты,
Упрятал ключ обратно в стол,
И, тайный умысел лелея,
Сел в дрожки, кликнув Пантелея,
И крикнул: «В Палкино, пошел!»
XIV
Встав, как обычно, спозаранок,
Фома Петрович во труды
Пустился: в самовар воды
Велел налить, снести баранок
Ему ко фриштику, потом
Просеять просо решетом,
Свершил обревизовку грядок,
А после, пот стерев с лица,
Поднялся в горницу с крыльца
Бумаги привести в порядок
И отпер крышку у ларца.
Там, как сугробы снеговые,
Лежали грудами счета,
Расписки, сметы годовые,
В кисете тонкого холста
Два эполета боевые
И, мост в событий славных даль,
Его парижская медаль,
Суда вердикты, закладные,
Крестьян реестры именные,
Да два письма. Никак, легка,
Марии Лавровны рука?
«Кому, с каким распоряженьем? —
Фома Петрович позевнул, —
Не вздор ли?» — и одним движеньем
Жены посланье развернул.
XV
«Иван Евлампиевич, было,
Вас ране привечала я,
Но как посланье получила
От вас, скажу вам не тая,
Перед очами все поплыло,
И шум нейдет из головы,
И грудь в томлении заныла,
К которой так стремитесь вы.
Не вам ли знать, кого милуем
Мы, жены, верные долгам?
Да как вы смели с поцелуем
Мечтать припасть к моим ногам!?
Вас почитали другом дому,
А вы, как тать, крались во тьме,
Тая коварство на уме,
А в чреслах плотскую истому,
Что вашем вылилась письме.
Отрава похоти греховна
В его строках заключена:
Прознала бы Агафья Львовна,
Так что сказала бы она?
А коль вослед проказе дерзкой
Волна покатится молвы?
Вы негодяй, и богомерзкой
Поступок совершили вы!
А много ль часу слухам, тлея,
Дойти огнем до дальних сел?
Зачем втравили Пантелея
Вы в козни, старый вы осел!?
Мне мук не выразить словами,
Всечасно к Богу вопия:
Иван Евлампиевич, вами
Вся жизнь погублена моя.
Так познаются человеки!
Вам нет для оправданья слов.
Оставьте нас теперь навеки,
Держитесь дальше от Козлов,
В своих покайтесь злодеяньях
В преддверьи божьего суда,
Спасайте душу в покаяньях,
И с тем прощайте навсегда».
XVI
Я враг над разумом насилий,
Но всяк страстями искушен
Представить может без усилий:
Фома Петрович был взбешен.
«Прохвост, каналия, плешивый
Удильщик, проходимец, плут,
Пачкун, распутник, друг фальшивый,
Свинья, поганец, баламут, —
(Здесь вновь потребна цепь отточий)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Супруг ярится, — кознодей,
До сладких прелестей охочий
Марии Лавровны моей!
В дому, что ль, мало челядинок?
Дуэль! Смертельный поединок!
Убью! Никишка, кучер, эй!
Двуколку запрягай скорей!»
Лугов и нив мелькают виды;
Отлогом пылистым холма
Посланцем грозной Немезиды
Летит неистовый Фома —
Мужья к мольбам пощады глухи,
Сердца их полнит ярь, каля —
Вот, наконец, и Лысы Мухи,
И дом распутника Шмеля.
Он в дверь стучит, выходит ключник.
«Любезный, будь-ка мне подручник,
Я тороплюсь, понорови,
Скорее барина зови,
Да доложи: для разговорцу». —
«Нельзя, к Николе Чудотворцу
Полудни съехали они,
Сказав, до вечера, одни». —
«К Николе в Палкино?» — «Так точно». —
«Ну что ж, ступай. Никишка, срочно
К отцу Савелию! Плута
Найду и там, Господь наставит,
И отвечать врага заставит;
Да погоняй во три кнута!»
XVII
«Иван Евлампиевич, ныне
Настало время счеты свесть:
Жены моей убита честь,
И вам, крушащему святыни,
Десницы мужней ведать месть!
Вы негодяй, предатель дружбы,
Вы змий, таившийся досель,
Вы шершень, что назвался Шмель!
Никой спустил на свете муж бы
Такую гнусность вам! Дуэль!
Я на дуэль вас вызываю,
Иван Евлампиевич, ну,
И поединок затеваю
Затем, что этим уповаю
Спасти от сплетен злых жену!» —
«Фома Петрович, вы рехнулись!
От помраченья жди беды!
Мозги ли ваши перегнулись
Скоромной вашей от еды?
Велите не тушить на сале:
В горшок что б кухарь ни бросал,
А вкус дурен». — «Вы ей писали!» —
«Супруге вашей? Я? Писал?» —
«Да, лжец и низкий волокита!
Она в вас страсти разожгла.
Еще неделя не прошла
От козни вашего визита!
Довольно уж чесать кудель!
Дуэль! Немедленно дуэль!
Честь погубить замужней даме!
Стреляться!» — «Здесь, сейчас, при храме?» —
«Стреляться на пяти шагах!» —
«А к пистолетам как добраться?
На чем прикажете вы драться?» —
«Не знаю, хоть на кочергах!» —
«Фома Петрович, обещанье
Даю я бой вам учинить,
Но предстоит повременить:
Придется отстоять венчанье;
Свершим обряд, наступит ночь,
Тогда, как сумерки растают,
Начнем». — «Кого ж тут сочетают?
Невеста кто?» — «Да ваша дочь». —
«А с кем венчается!?» — «С Иваном». —
«Венчать украдкою, обманом?
Клянусь пред Богом и людьми,
Иван Евлампиевич, это
Смертельней пули пистолета!
Нет, это просто черт возьми!»
XVIII
Несись галопом, наша драма,
Ничто тебя не укротит!
Над трактом пыль: к воротам храма
Коляска быстрая летит —
Спеша, не разъезжай в рыдване!
Невеста вышла при Иване,
К отцу ступает своему —
И в ноги бросилась ему!
«Отец, ты здесь! Моя случайно
Теперь тебе открылась тайна.
Благослови, тебя молю!» —
«Вовеки не благословлю!
Как мне с развратником родниться,
Кто во грехе закоренел,
Стыда не зная, кто посмел
Моей женою соблазниться
И письма гнусные ей слать?
Нет, нипочем, ни тысяч за сто!
Да не реви ты! Нет и баста!
Благословенью не бывать!» —
«Я не писал супруге вашей». —
«Поверить низкому лгуну?
Иван Евлампиевич, ну,
Не напускайте вид монаший!
Солгать для вас безделка, но
Письмо-то ваше — вот оно!
А вот и надпись на конверте,
Что верный высмотрел супруг:
«Секретом, Марье Полукруг».
Улика! Рубимся до смерти!
Довольно этих слов одних!» —
«Мое письмо! — вскричал жених, —
Фома Петрович, право, каюсь,
Я написал, не отрекаюсь,
Сдержаться было мне невмочь,
Так ныло сердце в эту ночь,
Но адресатом, неповинна,
Была не ваша половина,
А только Марья, ваша дочь!
Иного я подать ей знака
Не мог». — «Недужится, однако,
Мне нынче... Значит, не она,
Моя жена... Но не жена...
Теперь бесчестья спасена?
Пятно ее на чести ль стерто?
Она, должно быть, извелась». —
«Фома Петрович, да на черта
Мне Марья Лавровна сдалась?» —
«А я уж думал, дело лихо».
Иван Евлампиевич тихо
Их речи слушал, но потом,
Поняв, что недруг опростался,
Как лещ хватать стал воздух ртом,
Вослед затрясся животом,
А после так расхохотался,
Что от болотец дальних, слаб,
Донесся квак будимых жаб,
С ветвей раскидистой рябины
Снялись отряды воробьины
И переправились на граб.
«Иван Евлампиевич, хохот
Поносен ваш. Вы интригант!
Обманщик! Где мой секундант?
Я не могу вменить вам похоть
В вину, но козни ваши суть
Отца попытки обмануть
Единой дочери любимой,
А потому неколебимой
Ответ мой будет: нет и нет!
Прохвост, едок моих котлет,
И вы хотите, чтоб вослед
На брак я дал благословенье?
Не буду думать и мгновенье,
Ни полмгновенья! Пистолет!» —
«Фома Петрович, право слово,
В развилке выбора простого
Ужель вам путь найти невмочь?
Явите к страждущим участье,
Влюбленному вручите счастье
И одарите счастьем дочь.
А сверх того, что мнится важным,
Не нужно будет вам отважным
Рядиться мстителем, и глядь —
Во свата нет нужды стрелять.
А много ль в том пребудет толку,
Чтоб порох сыпать нам на полку,
Внимать сраженья гласу труб
И зреть соседа хладный труп?
А снищет ли душа покою
В сознаньи, что своей рукою...
А Марья Лавровна? Она
Отрады будет лишена!
Вы имя женино введете
Во сплетен низких оборот,
Когда в меня вы попадете.
А что, когда наоборот?
Венчанье лучше перестрелки!
Представьте: свадьба, а в тарелке
У вас и шпик, и ветчина,
И рулька пряная нежна,
И пирожок лежит румяный,
И рябчик рядышком духмяный,
И чарка водкою полна!» —
«Иван Евлампиевич, это,
Хотя и ран от пистолета
Приятней, в том не откажу,
Но что, скажите ради Бога,
Ввиду подобного итога
Я Фролу Саввичу скажу?» —
«Да то и скажете за сходкой:
Свое решенье речью кроткой
Ему объявите в пять слов —
Мы с Фролом Саввичем знакомы,
Друзья, друг к другу вхожи в домы,
Ведь он завзятый рыболов». —
«Что!? За столом сидеть со сватом,
И слушать, как меж донных глыб
В зловонном блате гниловатом
Он добывает склизких рыб
Невероятного размеру,
Божась, чтоб принял я на веру
Брехливый сказ про их длину!?
Иван Евлампиевич, ну,
Конечно, были мы друзьями,
А может быть, и ныне есть,
Хотя моя задета честь,
Чтоб не браниться больше с вами
И удоволить дочь мою —
Нет, вы чудовище, вы хуже,
Но быть возлюбленной при муже —
Благословенье я даю».
XIX
Кагора дух струится хмелий,
Заката брезжится заря,
Ко молодым отец Савелий
Выходит из-за алтаря,
Зовет влюбленных к аналою
И славит Господа хвалою;
Дрожат, горячи и легки,
Свечей венчальных огоньки.
Иконостас за ним пригожий,
На солее рушник камчат,
Уже «венчается раб Божий»
Слова прекрасные звучат;
Венцы на главы водрузились,
Уж, умиленны, прослезились
Отцы, целованы кресты,
Надеты кольца на персты
Наградой за пережитое;
Вино пригублено святое,
Тропарь пропет, и под луной
Бретер Фома, забывши свару,
Ведет к возку влюбленных пару,
Что стали мужем и женой:
«Сколь мук моей пришлось изведать
Душе, умом не досягну.
Иван Евлампиевич, ну,
Коль не судьба вести войну,
Езжайте завтра к нам обедать:
Ведь мы родня, как я взгляну...» —
«Фома Петрович, завтра вместе
Мы за единый сядем стол,
Но чтоб все было честь по чести,
Чтоб нашу родственность раскол
Не омрачил по лживу слову
И повинуясь к правде зову,
Себя желаю обязать
Одну вам истину сказать
О Фроле Саввиче. Он славный
Сосед и друг, хозяин справный,
Любезен, не из фордыбак,
Обоих нас куда богаче,
При той единой незадаче,
Что он нимало не рыбак».
XX
Звездами небеса расшиты,
Закат угас в свою чреду.
Пелены яствами накрыты
В Фомы Петровича саду.
Мария Лавровна любовно
Ко сватье клонится: «А вот
Судак, подарок наших вод,
Отведайте, Агафья Львовна!»
Сваты хмелеют. Старый Шмель
К Фоме Петровичу нагнулся:
«Ох, сладко, чуть не захлебнулся,
Вишневка, чисто карамель!» —
«А карбонад в грибном рассоле?» —
«Зачем бы нет? Кладите боле!» —
«А вот заморское шабли.
Ну, изготовилися? Пли!»
Когда же наши инвалиды
Бутылок сокрушат редут,
Семейства дружный, без обиды,
Сердечный разговор ведут:
«Фома Петрович, испытала
Я таковое в эти дни,
Что вся до пяток трепетала,
Греха спасаясь западни». —
«Эх, женка! Ты-то еле-еле
И содрогнулась невзначай,
А, быв в запале, муж твой, чай,
Еще б подрался на дуэли:
Какая, право, кутерьма
Пошла от зятева письма!» —
«Боятся дамы комеражей». —
«Сполох не честь и для мужчин,
Как глупой поднятая стражей
В ночи тревога без причин.
Иван Евлампиевич, в свете
Прознают коль про письма эти,
То, коль Господь нас не спасет,
Молва дурное понесет». —
«Зачем желать защит от Бога?
Искать не следует предлога,
Чтоб чашу горькую не пить,
И чтоб не завариться каше,
Я бы желал посланья наши
Спалить и пепел утопить». —
«Согласен, так оно вернее
Не дать растечься ахинее,
А слухи злые чтоб пресечь,
Велите Пантелея сечь». —
«Ко вразумленью путь сей вечен,
Уже Иваном был он сечен,
Но не всерьез: он рассудил,
Что без оплошки, что случилась,
Венчанья бы не приключилось,
И дурня щедро наградил». —
«Вы, право, слишком доброхоты:
У вас к острастке нет охоты...» —
«Охоты вы у нас знаток». —
«А то! Чай, заяц не снеток». —
«Позвольте...» — «Нет, я не позволю,
Особо здесь, в моем саду!» —
«Что заяц? Заяц на виду.
Я вас, конечно, не неволю,
Но не признать того нельзя:
Взять зайца легче, чем язя.
Язь, он совсем иное дело!
Хитер, мерзавец, нет предела,
Спугнешь — уйдет на глубину...» —
«Иван Евлампиевич, ну...»
Оставим их на том застолье:
Смешным причудам вопреки,
Прекрасны наши старики,
Широко псковское раздолье,
Тиха вода Кудеб-реки,
Луна царит ночным над миром,
Земля овеяна зефиром,
Покой на холмах и долах
Во Лысых Мухах и Козлах,
У мироздания подножья
И выше, выше, в звездной мгле:
Во человеках милость Божья
И добрый мир на всей земле.
XXI
Читатель мой, пора проститься:
Поэме нашей вышел срок,
Но все ж к тебе я обратиться
Желаю с двойней дюжин строк.
Хоть повод для того курьезен,
А разрешить вопрос серьезен
Потребно, правды не поправ:
Фома Петрович был ли прав,
Иван Евлампиевич либо?
Решаюсь высказаться, ибо
Рискует автор впасть в искус
Стоять над схваткою героев,
Себя сужденьем упокоив,
Что всякой снеди в радость вкус.
Фома Петрович был обманут
Своим товарищем самим,
И, пылкой ревностью томим,
В интригу каверзную втянут,
Не быв злодей, так почему
Не сделать доброе ему?
Любя искусство поварское,
Скажу тебе, правдив и прям,
Что сам я доброе жаркое
Предпочитаю пескарям.
Иван Евлампиевич, мнится,
Ко мне не присоединится,
Но спор вести на сей предмет
С ним у меня желанья нет.
https://morgulis.livejournal.com/329665.html
2023-06-29 06:43 morgulis
* * *

https://morgulis.livejournal.com/329436.html
2023-06-18 19:49 morgulis
https://morgulis.livejournal.com/329141.html
2023-06-04 05:09 morgulis
ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ТИМОФЕЯ
I
«Что, возница, умолк? Что на сердце за грусть?
Иль дорога тебе непривычна,
Или песня твоя, что тянул наизусть,
Позабылась? Судьба ль горемычна?
Или в гиблое место заехали мы,
Или ветры лицо исхлестали,
Или путь потерял среди снега и тьмы,
Или кони дорогой устали?» —
«Худо, барин! Не то чтобы путь незнаком,
А объемлет мне страх ретивое,
Хладным змием под шубу проникнет тайком,
И язвит, не оставит в покое.
Этот лес бесконечный, да мрак гробовой,
Да просторы безлюдные дики,
Мнится, нам обещают удар роковой
От жестокой разбойничьей пики». —
«Полно, дурень, покойней не знаю я мест,
До полуночи в Жердеве будем,
Тишь да звезды, на версты души нет окрест,
Час-другой, и на станцию, к людям.
Здесь я детство провел, путь мне этот знаком,
Да и позже, порой скоротечной
Офицерской побывки, над Брынью тайком
Ко зазнобе тогдашней сердечной
Тут я ездил верхом, как проселок стихал,
Первой страстью душа горячилась...» —
«Эва, барин, да ты ничего не слыхал,
Что у нас с той поры приключилось?» —
«Ах ты заяц трусливый, свое зарядил!
Что ж? Набег ли врага удалого?» —
«Горше, барин! Антихрист уездом ходил,
К нам в Хотень, к кумовьям во Фролово,
Проповедовал в поле и в мари шинков
Всем, кто слушать его был готовый,
По дворам да базарам мутил мужиков,
Наставлял против веры Христовой.
Он, вития коварный, и рек так красно,
Что народ вкруг гурьбами сбредался.
Сам-то верой я тверд, а признаться грешно,
Среди прочих соблазну поддался». —
«Да чему же учил он?» — «Искусен во зле,
Он блазнил нас достатком и сытью,
Будто в рай с ним возможно войти на земле,
И законы он даст общежитью.
Вздор бесовский! Но силой увета таков
Был лукавец, что дюжина вскоре
С ним шататься окрестных пошла мужиков;
Да и я в ней, себе же на горе.
Слух о толке по ближним пошел волостям,
Темен люд наш, скольких обдуряли!
А как ведомо стало об этом властям,
Так жандармы сюда и нагряли.
Серафим к нам пожаловал, митрополит,
Все пытал, как посмели прельститься:
«Смертный грех! — разоряется, пекло сулит, —
А покаетесь если, простится.
Кто учил вас?» — Приверженцы бредней его
Все молчали, тот пуще ярился,
Но не вызнал винитель от них ничего,
Я ж не выдержал, проговорился.
Указал на него, страх-то был мой таков,
Что не только дознаньем измучен,
А средь всех провождавших его мужиков
Был един я, кто азбуке учен.
Да и списывал, дурья моя голова,
Знать, нечистый меня лихорадил,
Я на грамотку прелести лживой слова,
Каковыми он нас и привадил.
Поупрятал за ригой, боялся, что в суд
Сволокут, поминайте, как звали,
Да поди, и в Сибирь, коль бумагу найдут,
А назвал его, разом отстали.
И пожечь-то, впридачу ко всем неладам,
Не сподобился, занят работой,
День проходит, по выти моей, по задам,
Барин тешился, ехал с охотой.
И укромное место собаки нашли,
Свиток барину в руки с псарями,
И секли меня, Господи правый, секли,
Все лопатки пошли волдырями.
Отнял барин бумагу, да что ж, ничего,
Поделом, изловили злодея,
Искусителя нашего, взяли его
Во избе у Чернова Авдея». —
«Что ж боишься ты нынче?» — «Э, барин, годи,
Увезла лиходея карета,
А весь ужас-то смертный еще впереди,
Тем беда не закончилась эта.
В навечерие, край чуя воли денькам,
От речей, что смятенье творили,
Приказал собираться он ученикам
У Авдея в избе, говорили.
И в последнюю ночь, у печного огня
Рассадивши подручных ораву,
Говорил им: «Ближайший и выдаст меня
Погубителям лютым в расправу.
Вероломец изъявит души естество.
Принимаю судьбы я решенье».
И «Воскреснешь?» они вопросили его,
И сказал он им: «Нет воскрешенья.
Верьте истине, вновь наставляю вас я:
Мир един, нет ни рая, ни ада,
За земными пределами нет бытия,
Так мирским и живите, как надо.
И еще говорю вам: себе вы цари,
Власть над вами не чтите иную,
Всяк собой управляй и благое твори,
Но твори и расправу земную:
Если истине служишь, а истина в том,
Что злодейство свершает деянье,
То хлещи без пощады расправы кнутом:
Где вина есть, там будь воздаянье.
Час пришел мой, оставьте меня одного,
Не хочу, чтобы вас истязали».
И покинули, плача, питомцы его,
А невдолге жандармы вязали.
Только утро — иная беда в нашу глушь,
Моровая так не прокажала,
Чтоб исчезла без малого дюжина душ,
В ночь одну из деревни бежала!
Да без баб, без детишек, как утром роса,
Словно птицы, порхнувшие стайкой,
Растворились, пропали, сокрылись в леса,
Здесь, у тракта, и шляются шайкой.
Лошадей раздобыли, наделали стрел,
Да и рыщут, лихи, быстроноги,
Но не грабят, отступник бо им не велел,
А безвинных казнят у дороги.
Во Калуге епископ анафемы клал,
Поп наш сани кропил к первопутку,
А на Сретенье к службе — да здесь и пропал:
Налетели, проткнули как утку.
Место это глухое, елани, вода,
Бурелом, да овраги, да ели,
Ехал староста — канул, исчез без следа,
Так и прах не нашли, не отпели.
Страх во мне неизбывен с той самой поры,
Как укрылись они в эти чащи:
Топот грезится! Мчат нам по следу, быстры,
Ихни буйные кони летящи». —
«Вот заладил, пугливый! Не вешай башки,
Возмужалому, право, негоже.
Вот и станция наша, гляди, огоньки!» —
«Ну, доехали, слава те Боже!»
II
«Николай Александрович, ваше вино,
Без притворства скажу вам, изрядно». —
«Месяц как из Савойи». — «Отменно хмельно!
Дом ухожен, супруга нарядна:
Рад семейство я ваше в достатке застать.
Вы все прежний, неймется служаке!
А припомните, как доводилось латать
Нам чикчиры самим на биваке!» —
«Как не помнить, под Вязьмой! Ни слуг, ни казны,
Ни пожитков не тянет обуза,
Кони вязнут в грязи, рационы скудны,
Голодаем, а гоним француза!
Славный год! А сражений как грохот умолк,
Там наследство, отставка и свадьба». —
«Вы и здесь командир: образцово как полк
Управляется ваша усадьба.
Всюду верным движением вашей руки
Означаются планы и сроки.
Богатеют ли в ваших сельцах мужики,
Да исправно ли платят оброки?» —
«Волей Божьей пока не скудеет бразда,
Не видали давно недороду.
Мужики же мои... С мужиками беда:
Чуть не смута прошла по народу.
Плотник здешний худое надумал творить
Против светских властей и духовных,
Сатанинские речи пошел говорить,
Полны сладких приманок греховных.
Преуспел он в намереньях сеять раздор
И понудил иных соблазниться». —
«Ах, так вот что! А я все гадал: что за вздор
Мне дорогой плетет ваш возница?» —
«Тимофей? Он при нем вроде писаря был,
Баламутил тот души покуда,
А пытать его стали, так все и открыл,
Только этим и спасся, Иуда.
Да садитесь, Андрей Константинович, что ж,
Расскажу вам о толке об этом.
Столь злокознен он, вовсе с иными не схож,
Что да будет меж нами секретом
То, что я вам открою. Берите табак,
Трубку добрую с чашей резною,
Мой трофей люнебургский, прошу вас. Итак,
Началось это лихо весною...
III
Был он вольный, губернией прежде плутал,
Ни жены, ни детей, ни избушки,
А пришел к нам однажды, да так и пристал:
Я пустил на закрай деревушки.
Плотник ловкий, пригожую хату срубил,
И соседям всегда на подмогу:
Лавки ладил да бабам корыта долбил,
Да шинок обходил, слава Богу.
Грамотей был, мерзавец, ночами читал,
Да из книжки какой-то заразу
Подхватил, знать, и сам проповедовать стал,
Только это открылось не сразу.
Прозевал чародея я злой приворот,
А уж пагуба входит в лачуги:
Вы-то знаете, что у меня за народ:
Легковеры, невежды, пьянчуги!
Потому расползлась его ересь, как вши,
И мутила безумных похмельем,
Что сулила при жизни блаженство души
И свободы приправилась зельем.
Помню, в пятницу ехал домой от реки
Мимо льнища, и видел: на сланцы
Порасселись обедать мои мужики
И скоромное ели, поганцы.
Я на них: «Почему не блюдете поста?»,
И один, не смущаясь оплошке,
«Не постящийся благ, — отвечал мне спроста, —
Богу равно, что в смертного плошке.
Есть служение плоти смиренья опричь,
Человек им вовек окрылялся...»,
И заслышав из уст мужика эту дичь,
Не сдержался я и рассмеялся:
«Ты, библейник премудрый, я вижу, постиг,
В чем Господние воля и мера.
Что ж, яви откровенье, скажи, еретик,
Где спасенье и в чем твоя вера?» —
«Сердцем верую в то, — мне ответствовал он, —
Что людей поселяя на свете,
Мнил Всевышний предать им великий закон:
Не рабы вы Господни, но дети.
И как всякий отец, снаряжая нас в путь,
Он средь главных своих назиданий
Заповедовал чадам, как горя минуть
Жизнью здешнею, полной страданий.
Коли Бог нас подобными сделал себе,
Направляя по этой дороге,
Не хотел он, чтоб мы покорялись судьбе,
А желал, чтоб и мы были боги.
Отправляя в безлюдного мира нутро
Нас, нагих, коих рая лишали,
Завещал он, чтоб мы сотворяли добро,
И трудами юдоль украшали.
Нет, не небо, но землю потребно любить:
Без людей она стала б ничьею,
А Господь не желает того погубить,
Что создал он десницей своею.
Коли ты себе бог, то живи, не греша,
Предавай в поколеньях с сынами:
Если люди суть боги, то нам и душа
Надлежит, и умрет вместе с нами.
Мы в послании Божьем, но нету назад
Поворота с дороги юдольной;
Никогда не вернуться в небесный нам сад,
А идти смертным пашнею дольной,
Бороздам предавая живое зерно:
Жизни цель в том, и ей же основа,
Потому нам и семя Всевышним дано,
Чтоб, как боги, творить его снова.
Сыновья мы Господни, и нашим трудом,
Вольным духом, отказом смиренья,
Нам завещанный им, созидается дом,
И не знает земля разоренья.
Коль Всевышний дал миру цвести и люднеть,
И трудом нашим делаться краше,
То работой рожденные скарб наш и снедь —
Достояние честное наше.
Всякий плод попущением Божьим добыт,
Всяк снедает чего пожинает,
Потому Богу в радость, коль сын его сыт
И нужды тяготящей не знает.
Все кто внемлет да слышит, реку не хитро,
Увещаю и силой примера:
Не поститесь, но делом творите добро
К славе Божьей, и в том моя вера». —
«Что за вздорная чушь для безумных глупцов
И хула на величье Господне! —
Отвечал я. — Как звать тебя?» — «Прохор Квасцов». —
«Ну так вот что, крамольник: сегодня
Будешь к ночи у старосты. Я покажу,
Как добро сотворяется плетью,
Вразумляющей поркой тебя накажу,
А как дури не выбью, то клетью.
Кто тебя научил? — Я спросил у него, —
Облегчи себе кару. Однако,
Замолчал неофит, не сказал ничего.
А вот кучер сознался, собака,
Поупрямясь, но дал нам избавиться зла.
Так случайно, минувшей весною,
И узнал я, что порча по людям пошла
И дурманит умы беленою.
И скажу вам, Андрей Константинович, так:
Лжеученья бессильнее вдвое,
Коль к разору ведут: убыль зрит и простак,
Но увидел я вдруг таковое,
Что у тех, кто уверовал, из бедноты,
Сущей черни подлейшей породы,
Вдруг и сделались избы примерно чисты,
И в порядок пришли огороды.
К кузнецу заезжал за подковкой коньку,
Тот окончил и шапку ломает:
«Сын мой отрок... Дозвольте мальчонке к дьячку,
Обучаться, пусть грамоте знает».
Каково? Да на что им букварь открывать?
Не ученость умельцу заслуга.
Да неужто письменному легче ковать
Или лемех прилаживать плуга?
Многим плотничья ересь на души легла:
Тот перечит, другой непокорен,
Но управились, разом избавились зла,
Как нашли наваждению корень.
Из Синода к нам ездили, в нашу-то глушь,
Чин жандармский топтался в гостиной,
А как взяли злодея, одиннадцать душ
Сопричастных, ватагой единой
Подалися в бега, не оставив следа:
В земли польские двинулись, или
Возле Дона бродяжат... Дождутся суда,
Беглых прежде немало ловили». —
«А не рыщут ли в здешних пределах они?» —
«Право, экие вздорные слухи
Между черни от пьяной идут болтовни!
Беглецы не бесплотные духи.
Чем кормиться им, в дикой чащобе таясь?
Стужа нынче сурова, не лето.
Впрочем, жить не привык я, каналий боясь,
И не езжу, не взяв пистолета.
А чтоб знали вы верно, о чем я сужу,
Как условились мы, под секретом,
Тимофееву хартию вам покажу
В пояснение сказу об этом.
Временами гляжу в нее: память моя
Окаянные дни воскрешает.
Поглядите и вы, как привадой вранья
Злая ересь умы искушает».
IV
В день девятый июня, в полуденный зной,
Был чему самоличный я зритель,
Выходил на покосы Пророк наш земной,
Богоизбранный светлый Спаситель.
И к Нему из села, с самых дальних концов,
Шли алкавшие блага для духа:
Были Васька Матвеев и Прошка Квасцов,
Акулина пришла повитуха,
Был и Клим свинопас среди прочих людей,
Косари вышли с луга закраю,
Был Ефимка кузнец и бочар был Авдей,
И другие, которых не знаю.
И в тенистое место пройдя по стерне,
Говорил Он, усевшись у стога:
«Как дорогу нашли вы по лугу ко мне,
Так ко благу вам будет дорога.
Дан и ум, и глаза вам: не будьте слепы,
Жизни цель не спастись преисподней,
Как о том повторяют лукаво попы,
Исказивши глагол к нам Господний.
Прозревайте же, к вам обращаю мольбы,
В этом Истины свет лучезарен:
Мы, творения Божьи, ничьи не рабы,
Ибо Бог нам отец, а не барин.
Дети Божьи, пред вами бессильны цари,
Дух свободный вдохнул в вас Создатель;
Если сердце велит говорить, говори:
Кто безгласен, тот Правды предатель.
Дайте пахарю зерни сегодня щепоть —
Завтра сможет покрыть десятину,
Ибо в милости щедрой желает Господь
Благоденствия каждому сыну.
Посему святы труд и свобода души,
А не клятвы с обманною речью:
Что вам горние кущи? Утлы шалаши.
Ставьте избы, да крепкие, с печью.
Да не мучайте плоть, не блюдите поста,
Изможденный не благоговеет,
Птица Божья живет, не целуя креста,
Непорочна, и та не говеет;
Но к труду и добру понуждайте нутро,
Ибо Бог не на иконостасе,
А в сыновнем служеньи, что труд и добро
Съединяет во две ипостаси».
Приступил к Нему Клим и сказал Ему он:
«Если веры нет более Спасу,
То каков будет Твой, Благодетель, Закон?» —
И Учитель сказал свинопасу:
«Учат жертвовать вас для спасенья души
Всем земным ради вечности горней,
Я ж прошу тебя: радость изведать спеши,
Дольний мир обустроив просторней.
Говорят вам попы: плачьте, каясь в миру,
Я ж ко грешным хочу обратиться:
Не терзайте души, но стремитесь к добру —
За благим и дурное простится.
Хрупко благо, легко, словно птичье перо,
Зло громадно, язвит и кусает,
И всечасно во прах повергает добро,
И всечасно добро воскресает.
Нет ни рая, ни ада, глаголю вам днесь,
Жизнь дается единожды, братья,
Божьи дети, разите недоброе здесь,
И добру открывайте объятья.
Учат вас не противиться злому. Но я
Говорю вам: прощеньем смягчайтесь,
Но коль благо казнится, к сердцам вопия,
Коль бесчинствует зло, ополчайтесь.
Говорят вам еще не копить серебро,
Я же вас наставляю иначе:
Сотворяйте добро, наживая добро,
А предав в поколеньях и паче:
Кто детей уберег от лишений и бед,
Старость знает почтенную ныне,
Но радевший о вечном презрен дармоед,
Коль долги оставляет на сыне.
Учит церковь: прельщаться желаньем грешно,
Сладострастием душ не губите,
Я ж учу не отринуть вас плотское, но
Завещаю: желайте! любите!
Коль не ждет ничего нас за смерти чертой,
То не может быть в этом сомненья:
Дал нам женщину Бог, чтоб с ее красотой
Ведать празднество соединенья.
Учат вас не судить, чтоб не ведать суда.
Наставляю вас: Правду блюдите,
И взыскуете Истины если, тогда
Вольны мыслию, верно судите!
Призывал вас Христос: «Приидите ко мне,
Изнемогшие, аз упокою»,
Я же вам говорю: нет дороги, зане
Мир подлунный под властью людскою.
Не нужна вам и церковь, вы мира цари,
Благочестьем равны иноверцам;
Не молитесь иконам: с Отцом говори
Не канона словами, но сердцем.
И последнее, в чем наставляю вас я:
Дейте благо, благим дорожите,
Ибо выше блаженства во днях бытия
Не бывает, тому и служите.
Зрите, правда Господня проста и мудра:
С чуждым ведаясь, с кровным ли братом —
Если Бог укрывал нас покровом добра,
То добра мы повинны возвратом.
Да пребудет вовек, что Всевышним дано,
Нудит что боле глада и жажды:
Зла бегите и сейте добро как зерно,
И благое пожнется многажды.
Так носите в душе, как на коже тавро,
Знак избранности вашей чудесный:
Благодарную надобу делать добро,
Как велел вам Отец ваш небесный».
И тогда приступил к Нему Васька косарь
И сказал средь мушиного гуда:
«Как уверовать мне, что не смерд я, а царь?
Разве явишь, Учитель наш, чудо?»
И сказал Он: «Склоняюсь пред вами, цари,
Чада Божьи, глупы вы как дети.
Вот коса твоя, ею и чудо твори,
А иных не бывает на свете».
Поднесла бочарова дочурка цветок
Венценосцу, сорвавши у речки,
И, приняв ее дар, Он подал ей свисток,
Бывши выдолблен Им из дощечки.
И смеялось дитя, и свистало дитя,
И сходило блаженство на лица,
И, как ангел, высоко над лугом летя,
Обращенных окликнула птица.
Что упомнилось мне, то списал я сейчас,
Тимофей. Так Учитель наш святый
Говорил на покосах, в полуденный час,
В день с начала июня девятый.
V
«Софья Павловна, в скорби склоняю главу
Перед вами. Безмерное горе!
Сколь ужасно товарища видеть вдову,
Безутешную, в черном уборе!
Здесь, в гостиной у вас я встречал Рождество,
Вы, смеясь, протянули мне руки,
Был я счастлив здесь друга обнять моего
После месяцев долгих разлуки.
Для сердечных сношений негоден мундир,
Он полковник, я вечным майором,
Он бессменный полка моего командир,
Я же слыл забиякой, бретером,
Непокорным приказу... Не раз и не два
Оскорбителей звал я к барьеру,
А тому, за кем ходит худая молва,
Мудрено обустроить карьеру.
Строг со всеми, но мне он проступки прощал,
Не вверялся облыжным наветам,
Сколько раз он беду от меня отвращал:
Никогда не забыть мне об этом.
Мы сошлись. И потом, при отставке его,
Во преддверии жизни поместной,
Звал гостить он меня из полка одного,
Сделав равным во дружбе совместной.
Николай Александрович, друг мой, прости,
Повторяю себе в укоризну,
Что на пиршество в дом твой случилось войти
Мне лишь раз — и второй раз на тризну!» —
«Ах, Андрей Константинович, как вы добры!
Вы покойному мужу вручали
Драгоценные дружбы сердечной дары
И души утоляли печали.
Вспоминал и о вас он в тот день роковой,
Как не ведавшем бегства в испуге,
Когда весть пронеслась: объявил вестовой,
Что холера явилась в округе.
И решил Николай Александрович сам,
На ночь глядя, один, в непогоду,
Карантины уставить своим по сельцам,
Чтоб сдержать, сколь возможно, невзгоду.
Мужики-то у нас непокорная рать,
Их наказом одним не управишь;
А по избам ослушников как запирать?
Барской плетью, иным не заставишь.
Тимофей ему в ноги, стал остерегать:
«Не поеду, хотя б колотили!» —
Он его обругал и велел запрягать,
Покрестились да и покатили.
Ночь прошла, управляющий к нам на крыльцо,
Весь трясется, не в силах с собою
Совладать, перекошено страхом лицо:
«Горе! Горе! Убиты обое!
Николай Александрович в шею стрелой,
Тимофея на колья воздели,
Протыкнули его как дерюгу иглой,
Верстах в нескольких трактом отселе».
Бедный муж мой! Не брали его ни штыки
В чуждых землях, ни ядра, ни пули,
А в отечестве пал от злодея руки...
Полночь близится. Вы бы вздремнули:
Поутру путь далек вам. Коль не повезет,
Почтовых ждать придется часами,
Истомитесь бессоньем. Вас Федор свезет
До Козельска, а далее сами».
VI
«Что, возница, грустишь? Иль на сердце тоска?
Что мы тащимся словно на на дрогах?
Правь бойчее, светает, стезя широка,
Встретить ночь не хочу на дорогах». —
«Смилосердствуйся, барин, дозволь передых,
Потерпи, хоть и самую малость,
Пожалей наших старых лошадок худых,
Да меня не кори за усталость:
Тяжко, тяжко мне что-то, томленье в груди,
Полнит сердце кручина до краю,
И молюсь, а без толку: все тьма впереди,
А отпустит ли болесть, не знаю». —
«Боже святый, еще мне возничий один
Исповедаться хочет сегодня!» —
«Не досадуй, не гневайся, мой господин,
Я на все, знаю, воля Господня,
Но зачем — ты не сетуй на пени горьки,
Нешто Бог позабыл нас и предал? —
Почему в нашей жизни все не по-людски,
Все не так, как Христос заповедал?
Между горним и дольним межа пролегла:
В высях доброе, в людях лишь злое,
В небеса взор уставишь — кресты, купола,
А под ними болото гнилое!
Почему нас попы к послушанью влекут,
Обещают нам райские кущи:
Не противьтесь, мол, злому. А злые секут,
Как отцов наших, даже и пуще.
Николай Александрович барин был мой,
Словно небо ходил грозовое,
Провинишься, так правил... Мучитель прямой,
А вдова его как бы не вдвое.
Не умеют у нас ни любить, ни жалеть,
За порок почитают прощенье,
Потому не добро нами правит, а плеть,
Зло да леность, да жажда отмщенья.
Заколдована наша навеки страна,
И деревни ее, и дороги:
Всюду морок тлетворный. Но если война,
Так и баре поклонятся в ноги!
Наш-то только и знал, что бранить да карать,
Да корить непроворством капризно,
А как войско на горцев пошли набирать,
Обнимал нас: «Отчизна, отчизна!
Нету блага святей, чем врагов убивать!»,
С ним и поп, и урядник при флаге.
Я-то думаю: надобно им воевать,
Чтоб народ и не мыслил о благе.
Да до блага ль бездольным? Ходил тут один,
Я погнал его прямо с порога,
Так твердил мужикам: всяк себе господин,
И чернил нашу веру и Бога.
Бесы правят! Уж имя Христово в хуле!
А незлых бы помещиков люду
Дал Господь, так не жил бы народ в кабале,
И добро б утвердилось повсюду.
Скрыто благо в миру, поищи его подь!
Вечно мыкаться грешным в недоле:
Видно, молимся мало. Да где ж ты, Господь?
Ты на небе, а мы-то в юдоли.
Нет пути мужику: всяк терзает и бьет,
Вот и сходит он в землю до срока,
Потому и буянит, ленится да пьет,
И не знает защит от порока.
Ищем тщетно исхода, плутаем во мгле
В ежедневных заботах о хлебе,
Но уж если мы столько грешим на земле,
Так не пустят нас в рай и на небе.
Тот, раскольник, хотел клад явить нам таим,
Говорили у нас на базаре:
Здесь, мол, рай созидай прилежаньем своим.
Встал бы рай здесь — отняли бы баре.
Нешто выйдет: с Христом мы тянули хомут,
А прошли по стопам фарисея?
Тут нагайка да путы, там узы да кнут.
Но, проклятые! Эх ты, Расея!»
https://morgulis.livejournal.com/328392.html
2021-08-17 08:17 morgulis
https://morgulis.livejournal.com/328088.html
2021-06-20 04:35 morgulis
https://morgulis.livejournal.com/327880.html
2021-06-15 07:08 morgulis
https://morgulis.livejournal.com/327549.html
2021-01-20 05:58 morgulis
Поздравляю френдов-демократов с победой на выборах и новым Президентом. Надеюсь, что ему достанет политического чутья избежать ошибок предшественников, вызвавших колебания политического маятника последней дюжины лет.
В пору эпидемических своих каникул и в предположении, что действующий Президент имеет шансы на переизбрание, мне захотелось смягчить предстоящую кручину моего френда  yakov_a_jerkov, одного из самых деятельных и бескомпромиссных либеральных гладиаторов ЖЖ, и я написал стансы, долженствовавшие пролиться целебным бальзамом на душевные его раны. Политические мои презумпции оказались неверными, а стихи остались и принадлежат теперь альтернативной истории. Выкладываю их здесь, поскольку, несмотря на ошибочность авторских прозрений, гуманистический их пафос не поблек.
yakov_a_jerkov, одного из самых деятельных и бескомпромиссных либеральных гладиаторов ЖЖ, и я написал стансы, долженствовавшие пролиться целебным бальзамом на душевные его раны. Политические мои презумпции оказались неверными, а стихи остались и принадлежат теперь альтернативной истории. Выкладываю их здесь, поскольку, несмотря на ошибочность авторских прозрений, гуманистический их пафос не поблек.
УТЕШИТЕЛЬНАЯ ОДА НА КОРОНАЦИЮ ДОНАЛЬДА ДЖОНА ТРАМПА,
КОЮ ВЕЛИКОМУДРОМУ ДРУГУ СВОЕМУ ЯКОВУ ДЖЕРКОВУ,
В ПЕЧАЛИ ПРЕБЫВАЮЩЕМУ,
ПРИНОСИТ СОСТРАЖДУЩИЙ АВТОР
Земли, доколь сягают взоры,
Предивны виды предстают:
Огнеблистающей Авроры
Лучи сиянье долу льют,
Златя вершины снеговые,
И, услаждая очеса,
Светлят и нивы, и леса,
И весей стрехи домовые,
И тверди средь, и в лоне вод
Дарят насельникам живот
Тепла от щедрой благодати
В Земли и Неба конкордате.
Не се ль Элизиум нетленный,
Что Феб зарею пробудил,
Каков благой Отец Вселенной
Десницей мощной утвердил,
Ведомой волею Господней?
Но грешный ум иных картин
Опричь роскошныя куртин
Желает зреть во преисподней,
Ясырь лукавого оков:
Мужайся, верный друг Джерков,
Зеницы обращая с неба
На виды мрачного Эреба.
Давно уже, во время оно,
Воссесть на вышний метил трон
Несомый вихрем Аквилона
Над миром дольним Дональд Джон.
Его злокозненные речи,
Кривы, как дуги эволют,
Мутили легковерный люд,
Гораздый буйствовать на вече,
И ты, привыкший на пролаз
Свой возвышать суровый глас,
Прервав о птахах монологи,
Восстал на зло своем во блоге.
И се — сгнетенною пружиной
Ширнув, средь стен не хоронясь,
С прислугой тьмы своей дружиной
Отважно бьется света князь!
Здесь, мысли вольны от вериги,
Неслись над полем вопли Дзиги;
Архистратиг мудроголов,
Смечал удары Соколов;
Един средь нехристей евреев
Являлся сын славян Киреев,
И, прозревая ход светил,
Во тьме отверзши сонны вежды,
Искал в созвездьях знак надежды
И карты хитрые чертил;
И возвещали барабаны
Опалы, санкции и баны.
Понеже чуж вам взгляд двояков,
Терез раздумий тихий скрип,
Предел твой дрожью шел, о Яков,
От лютых ваших диатриб.
Ваш дух сомненья не коснулись,
Когда державный на разор
Ваш обращать пристрастный взор
Дерзал печальный скальд Моргулис,
Боясь, что вышний зиккурат
Займет коварный прокурат.
Джерков, не ты ли змия, вспомни,
Предпочитал ягненку Ромни?
Остер был слов твоих как клин тон,
Но на престол во свете рамп
Взошел не светлый ангел Клинтон,
А черный гитлеровец Трамп.
Он сил добра эксплуататор,
Разврата буйного он раб,
Гетеросек и пусеграб,
Дегенерат, расист, диктатор,
Прислужник чванства своего,
Он друг тирана из Кореи,
Им вертят хитрые евреи,
И в довершение всего
Венчают лоб слуги Сиона
И лавры русского шпиона.
Свет не видал глупей болвана,
И что творит на царстве он!
Растлитель девственниц Кавано
Им возведен в Синедрион,
Несут страну к обрыву кони,
Грозя во пропасть воз совлечь,
Егда же ведьма Эми Кони
Фемиды восприимет меч,
Враги добра и света с бою
Возьмут последний наш редут,
И нам, Джерков, тогда с тобою
Аборта сделать не дадут,
И сменят в храмах просвещенья
Науку требы и крещенья.
Несчастья семо и овамо!
Кумиров вержит в прах зоил:
Риз отрешен святой Обама
И Первый леди Михаил,
Герольды истин журнализма
Прослыли сворою лгунов,
Теряет набожных сынов
И культ священный потеплизма:
В кибитках люд катит простой,
Елики двигают моторы,
Живимы нафтою, которы
Перхают углекислотой,
Клоня во гроб, чужды запрету,
Великомученицу Грету.
Но против зла восстал Юпитер!
С ересиарха снять клобук
Скупой на слово алчет Твиттер,
И мнит цензуры друг Фейсбук.
Весь мир воспрял в единой сплотке:
Патриархат и раввинат,
Конгресс шумливый и Сенат
Дерут на лиходея глотки,
Увечный бросил свой протез,
Идти готовый за Кортез,
И льет хулы на князя блуда
Хор лучших пуссей Голливуда.
Мир заключить им не приспичит,
Война не знает полумер,
Но супостата заимпичить
Ни Шифф не сладил, ни Шумер.
На рамена взваливши гнеты,
Они уставили тенеты,
Но Трампа Мюллер-дармоед
Избавил абшида мает.
Не видно трещин на колоссе,
Сколь ни мечись и ни психуй:
На долг святой забила болт
Колдунья старая Пелоси,
Тянувши время до суда;
Спустила, старая бестия,
Презрев единоверцев preachment,
В ночную вазу весь импичмент.
В багрец укрылся небосклон!
Звончей набата колокольна
Ликует партия Линкольна,
Зря как осла пинает слон.
Но чу! хотя несносно бремя,
Пришла желанная пора:
Сплотить ряды настало время
Великой Партии Добра.
Настал канун великой даты!
К сараю хана кандидаты
Сошлись ярлык просить, и вот
Резня идет не на живот,
И на дружины смертны раны
Летят писак газетных враны.
Напрасно перси воздымала,
Взывая ко своим бойцам,
Неукротимая Камала:
Летит вершница к праотцам,
Коня низвергнут от курбета,
Полынь кровавит павший Бето,
От ятаганов янычар
Дух испускает Клобучар,
Сронив свой томагавк проворен,
Средь прерий пал гурон Уоррен,
И грудь рогатина остра
Нашла Бутиджича Петра:
Тот ведал страх, бывал кто раз при
И зрел меж слуг монарших распри.
И следом, хана кто во глум вверг,
Сбираясь в бой идти с мошной,
Сраженный, сходит в мир иной
За ними бей надменный Блумберг:
Всяк афедрон найдет рожон.
И се наука демократам:
Не куплен мир еврейским златом,
Но вашей дурью поражен.
Меж стрел Перуна, в бури вое
Богатырей осталось двое:
Постой! Задам тебе ужо!
И налетел на Берни Джо:
Суровы правила отборца
В орде на пост тираноборца.
Вотще, кумир растленной черни,
К ней обращал призывы Берни,
Отродье хамово к добру
Клоня впреки консерватизма,
Блаженный сын идиотизма
И русской тяги к топору.
Героя кровь лиется втуне,
Не нравен аред злой фортуне,
Ей милосердие чужо:
Пал Берни, чернь возносит Джо.
И се — двуличны византийцы,
Виват кричат ему партийцы.
Ко вящей радости Вселенной
Спаситель шествует явленный!
Грядя в сиянии дневном,
Джо ободряет униженных,
Целит во храмах прокаженных
И воду делает вином.
Мятется Трамп! Чумного гроба
Он ворошит гнилую цвиль,
Мешает в зелье, и бутыль,
Полна тлетворного микроба,
Сочит в криницы страшный вар,
Чтоб род людской от мора вымер:
Спаси, царь тартара Владимир,
Убереги народных кар!
Но сколько Трамп ни гомозился,
От порчи сам и заразился:
Тиран! В подмогу не зови Русь:
Добро попрет коронавирус!
Коварства следуя канону,
В глубины канув как Тритон,
Нисходит Дональд к Qanonу
В сокрытый в толще вод притон,
Где злая Гидра, сняв с кронштейна,
Мстя за Вайнштейна и Эпштейна,
Ему, припав рабой до стоп,
Вручает Хантера лэптоп,
И загружает из запаса
В него картины кутежей,
Казенных денег дележей,
Иноплеменные инкассо,
И прочим пасквилям вослед
Республиканца партбилет.
Но вновь изведен силой правой
Злоумышлитель прелукавый!
Низринул мраз Афелий южный!
Но Трамп, в предчувствии конца,
Комплот замысливши калюжный,
Пускает к Путину гонца.
В аду, где тлеют груды кокса,
Где на волну настроен Фокса
Экран, в чаду подземных крипт
Читает Путин манускрипт,
Зовет под дымные завесы
Чертей, и сворой злые бесы
Насев, осинов кол кривой
Тугою сводят тетивой,
И пивом русского кружала
Стрелы летучей травят жало.
Чтоб сладил Джо с антропофагом,
Сойдясь потай ареопагом,
Жрецы, кадильниц во дыму,
Находят спутницу ему
И извлекают мал-помалу
Из раки павшую Камалу;
Живой водой окроплена,
Вздымает перси вновь она!
Приходит час отмстить обиды,
Задав нормали эвольвент:
Сошлись над августом планиды;
Демократический конвент,
Сплоченный гнетом бед суровым,
Набег напутствует на зло
И наперед листом лавровым
Венчает Байдена чело,
И клятву тот святую ложит,
Что Трампа он на ноль умножит.
По-над престольным Вашингтоном,
Под метроном календаря,
Созвучны либералов стонам,
Завыли ветры ноября.
Приходит час Армагеддона!
Освободитель у кордона,
Рассвет готов пролить лучи,
Скакун героя не стреножен,
Готовы узы тесных ножен
Совлечь каленые мечи;
План стратагемы верный найден:
Подъял клинок свирепый Байден;
Камала, взлет ко трону мня,
Подводит витязю коня,
И вслед хвалам и аллилуйям
Благословляет поцелуем
Булат героя обнажен;
Спасайся бегством, Дональд Джон,
Пади, прося пощады, знамо
У Дунсинана лес Бирнама!
В твоем чертоге, Яков мудрый,
Сойдясь, синклит волхвов в тиши
Засел, грызя карандаши,
С мольбами к Нике златокудрой;
Но вот с небес сошла заря,
И сшиблись аспид и развратник
И ангел, светлый рая ратник,
И закипела смертна пря!
Все полем стало жаркой брани:
Посланец неба силой всей
Разит врага и в океане,
И среди горних воздусей,
Взлетая во предел эфирный;
Блазнит Ахилла плащ порфирный;
Чтоб грянуть Трампа по хребту,
Уж он занес над ним пяту!
Но путь проделав сухопутен
Сквозь твердь, вулкана по жерлу,
Посланец ада, злобный Путин,
Напружив лук, пустил стрелу!
Сокрыла тьма алмазы звездны
И ангел пал во мрака бездны!
Сосуд надежд до дна опростан,
Ход вражьих орд необорим,
На стогнах вой: рыдает Бостон
И торжествует Третий Рим.
Хоть терпит многое бумага,
Пиит, над ней спины не горбь:
Крушится мир! Повсюду MAGA,
Геенны жар и смертных скорбь!
Ехидных перьев акробаты,
В восторге, что приходит Хам,
Брахот бормочет злой Хахам,
Ликуют желчные арбаты,
Корежит мука Аввы лоб,
Потоки слез бегут по брюкам,
И не утешат хитрым трюком
Его Алиса или Боб:
У функций мира улучшений
Пустое множество решений.
Народовластия природу
Сумел я так истолковать:
Нельзя безумному народу
Свободу выбора давать.
Он гарпагон, хитрец, он скряга,
Не хочет он призвать варяга
Во власть, его чтоб либерал
К его же пользе обирал,
Он мнит, нужна что в доме сабля,
Не верит в наши словеса, блин,
Он плут, он сам себе кустод.
Народ достался нам не тот,
Как ты, Джерков, учил нас ране,
В годины первой с бесом брани.
Но души, коль черна завеса,
А избавленье далеко,
Врачуют Бомарше пиеса
И влага пенная Клико.
И чтоб в юдоли бед дальнейшей
Невзгод не видеть кутерьму,
Уединись с прелестной Гейшей,
Усладой сердцу и уму,
Познай отрады эскапизма
Над мрачной бездной тьмы и льда,
Покуда ужасы трампизма
Не канут в Лету навсегда,
Зане поветрие холеры
Снесть легче бедствий новой эры.
Давно во прениях трофея
Искал и я, забыв покой,
А ныне славою Орфея
Утешен, бури средь мирской.
Послушай мудрого Рамбама:
Чтоб разум свой усовершать,
Не Трампа надо сокрушать,
Зане призвал его Обама,
Но вышних истин вожделеть,
Себе в суждениях довлеть,
Хотя, коль путь разделишь с Гейшей,
Задача видится труднейшей.
Мой друг, избавься грусти плена:
Твой ум, оставив бедам счет,
Играя, корень многочлена
От переменной извлечет;
Тобою, вольным от дурмана,
Затмится слава Перельмана,
А там мозгами поскрипи —
Найдешь, что P = NP,
Раскусишь уравненья Стокса,
Подашь идею парадокса,
Чтоб гений будущих веков
Башку ломал над ним, Джерков,
И свет прольешь над ординарной
Проблемой Гольдбаха бинарной.
Придет час Божьей благостыни,
Луч озарит луга и плес
Земли, над коей льется ныне
Лишь Ниагара наших слез.
Конец зиме настанет трудной,
И вновь над нивой изумрудной
Избывшей деспота земли
Взлетят прилежные шмели,
Гурты рогатых крав и яков
Пройдут по пажитям, преград
Не зная, и блаженный Яков,
Подъявши фотоаппарат,
Изобразит, где ране зяб лик,
Как ариозо тянет зяблик.
Но отлагаю лиру, ибо
Довольно мой гремел глагол.
Пусть троп из тьмы во свет изгибы
Неисчислимы как гугол,
Но вспрянь жизнелюбивым духом,
О мой печальный друг Джерков,
И нас, твоих учеников,
Наставь судьбины оплеухам
Давать отпор. Простри крыло,
Укрыв защитной сенью души,
И услаждай питомцев уши
Надежды полными "Hello".
И между прочими певцами
Корми нас млечными сосцами.
https://morgulis.livejournal.com/327247.html
2020-07-16 06:20 morgulis
https://morgulis.livejournal.com/327008.html
2018-04-30 04:36 morgulis
* * *

https://morgulis.livejournal.com/326768.html
2018-01-21 06:55 morgulis
* * *

https://morgulis.livejournal.com/326587.html
2018-01-08 05:03 morgulis
* * *

https://morgulis.livejournal.com/326176.html
2017-11-23 06:22 morgulis
Инстинкт

https://morgulis.livejournal.com/326043.html
2017-11-21 06:09 morgulis
* * *

https://morgulis.livejournal.com/325468.html
2017-11-07 06:45 morgulis
* * *